–õ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–į—Ź –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–į —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ–†–ĺ–ľ–į–Ĺ –Ē–∂–ĺ–Ĺ–į –†. –†. –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ —Ā–ľ–Ķ—ą–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ĺ—ā–∑—č–≤—č –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤. –°—Ä–Ķ–ī–ł —ā–Ķ—Ö, –ļ—ā–ĺ –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ĺ –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ł–Ľ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ, –Ī—č–Ľ–ł –£–ł—Ā—ā–Ķ–Ĺ –•—Ć—é –ě–ī–Ķ–Ĺ, –ź–Ļ—Ä–ł—Ā –ú–Ķ—Ä–ī–ĺ–ļ –ł –ö–Ľ–į–Ļ–≤ –°—ā–Ķ–Ļ–Ņ–Ľ–∑ –õ—Ć—é–ł—Ā. –í–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ —Ā —ā–Ķ–ľ, –Ņ–ĺ—Ź–≤–Ľ—Ź–Ľ–ł—Ā—Ć –ł –Ĺ–Ķ–≥–į—ā–ł–≤–Ĺ—č–Ķ –ĺ—ā–∑—č–≤—č —Ā–ĺ —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ—č –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č—Ö –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤ –ł –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ. –° –Ĺ–į—á–į–Ľ–į 1980-—Ö –≥–ĺ–ī–ĺ–≤ —Ą–ł–Ľ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł –Ę–ĺ–ľ–į –®–ł–Ņ–Ņ–ł –ł –í–Ķ—Ä–Ľ–ł–Ĺ –§–Ľ–ł–≥–Ķ—Ä –Ĺ–į—á–į–Ľ–ł –ĺ—ā–≤–Ķ—á–į—ā—Ć –≤—Ä–į–∂–ī–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ –Ĺ–į—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–į–ľ –≤ —Ā–≤–ĺ–ł—Ö —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į—Ö –ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–Ķ, —ā–į–ļ–∂–Ķ –į–Ĺ–į–Ľ–ł–∑–ł—Ä—É—Ź –ľ–Ĺ–ĺ–∂–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ —ā–Ķ–ľ –≤ –Ķ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź—Ö, –≤–ļ–Ľ—é—á–į—Ź ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ. –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–ī—č –ł–∑—É—á–į–Ľ–ł —Ą–Ķ–Ĺ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ –≤—Ä–į–∂–ī–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–ĺ–≤–Ķ–ī–ĺ–≤ –ļ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ—É –≤ —Ü–Ķ–Ľ–ĺ–ľ –ł –ļ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ—É –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –≤ —á–į—Ā—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–ł–≤ —Ä–į–∑–Ľ–ł—á–Ĺ—č–Ķ –ĺ–Ī—ä—Ź—Ā–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź. ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ņ—Ä–Ķ—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ–ł –Ņ–ĺ-—Ä–į–∑–Ĺ–ĺ–ľ—É, –≤ —ā–ĺ–ľ —á–ł—Ā–Ľ–Ķ —Ā –ľ–į—Ä–ļ—Ā–ł—Ā—ā—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ–ĺ–∑–ł—Ü–ł–Ļ –ł —Ā —ā–ĺ—á–ļ–ł –∑—Ä–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ—Ā–ł—Ö–ĺ–į–Ĺ–į–Ľ–ł–∑–į, –į —ā–į–ļ–∂–Ķ —Ā—Ä–į–≤–Ĺ–ł–≤–į–Ľ–ł —Ā –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź–ľ–ł –ľ–ĺ–ī–Ķ—Ä–Ĺ–ł—Ā—ā–ĺ–≤. –ö–ĺ–Ĺ—ā–Ķ–ļ—Ā—ā–Ē–∂–ĺ–Ĺ –†–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–ī –†—É—ć–Ľ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ (1892‚ÄĒ1973) –Ī—č–Ľ –į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ł–ľ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ –ł —Ą–ł–Ľ–ĺ–≥–ĺ–ľ, –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–≤—ą–ł–ľ –Ĺ–į–ł–Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą—É—é –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –≤ –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ –į–≤—ā–ĺ—Ä–į —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ ¬ę–•–ĺ–Ī–Ī–ł—ā, –ł–Ľ–ł –Ę—É–ī–į –ł –ĺ–Ī—Ä–į—ā–Ŗ嬼 –ł ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ[1]. –ü–Ķ—Ä–≤—č–Ļ —ā–ĺ–ľ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –Ņ–ĺ–ī –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ ¬ę–Ď—Ä–į—ā—Ā—ā–≤–ĺ –ö–ĺ–Ľ—Ć—Ü–į¬Ľ –Ī—č–Ľ –ĺ–Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ĺ –Ĺ–į –į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–ľ —Ź–∑—č–ļ–Ķ 29 –ł—é–Ľ—Ź 1954 –≥–ĺ–ī–į. –í—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ —ā–ĺ–ľ ¬ę–Ē–≤–Ķ –ļ—Ä–Ķ–Ņ–ĺ—Ā—ā–ł¬Ľ –Ī—č–Ľ –ĺ–Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ĺ 11 –Ĺ–ĺ—Ź–Ī—Ä—Ź —ā–ĺ–≥–ĺ –∂–Ķ –≥–ĺ–ī–į, –į 20 –ĺ–ļ—ā—Ź–Ī—Ä—Ź 1955 –≥–ĺ–ī–į –≤—č—ą–Ķ–Ľ —ā—Ä–Ķ—ā–ł–Ļ —ā–ĺ–ľ ‚ÄĒ ¬ę–í–ĺ–∑–≤—Ä–į—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ–ĺ—Ä–ĺ–Ľ—Ź¬Ľ[2]. ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ –ĺ–≥—Ä–ĺ–ľ–Ĺ—É—é –Ņ–ĺ–Ņ—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –≤ –°–®–ź –≤ 1960-–Ķ –≥–ĺ–ī—č, —Ā—ā–į–≤ —Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ –ľ–į—Ā—Ā–ĺ–≤–ĺ–Ļ –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä—č. –° —ā–Ķ—Ö –Ņ–ĺ—Ä —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ –ĺ—Ā—ā–į—Ď—ā—Ā—Ź –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć –Ņ–ĺ–Ņ—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ—č–ľ, –ĺ–Ī—Č–ł–Ļ —ā–ł—Ä–į–∂ –Ņ—Ä–ĺ–ī–į–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ļ–Ĺ–ł–≥ –Ņ—Ä–Ķ–≤—č—ą–į–Ķ—ā 150 –ľ–ł–Ľ–Ľ–ł–ĺ–Ĺ–ĺ–≤[3]. –ö–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–ł–ł –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į–Ē—ć–Ĺ–ł–Ķ–Ľ –Ę–ł–ľ–ľ–ĺ–Ĺ—Ā –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ —Ā–į–ľ –į–≤—ā–ĺ—Ä ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –ĺ—Ā—ā–į–≤–ł–Ľ —Ä—Ź–ī –ļ–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–ł–Ķ–≤ –Ņ–ĺ –Ņ–ĺ–≤–ĺ–ī—É —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į –≤ –Ņ—Ä–Ķ–ī–ł—Ā–Ľ–ĺ–≤–ł—Ź—Ö (–ļ –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–ľ—É –ł –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ—É –ł–∑–ī–į–Ĺ–ł—é), –≤ –Ņ–ł—Ā—Ć–ľ–į—Ö –ł —ć—Ā—Ā–Ķ. –í –Ņ—Ä–Ķ–ī–ł—Ā–Ľ–ĺ–≤–ł–ł –ļ –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–ľ—É –ł–∑–ī–į–Ĺ–ł—é –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ –Ī–Ķ–∑–ĺ –≤—Ā—Ź–ļ–ĺ–Ļ –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł–ł –∑–į—Ź–≤–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –Ķ–≥–ĺ –ļ–Ĺ–ł–≥–į –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–į –Ĺ–į ¬ę–ľ–Ķ–ľ—É–į—Ä–į—Ö –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č—Ö —Ö–ĺ–Ī–Ī–ł—ā–ĺ–≤¬Ľ, –Ď–ł–Ľ—Ć–Ī–ĺ –ł –§—Ä–ĺ–ī–ĺ (—ā–ĺ –Ķ—Ā—ā—Ć —Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī–ĺ–ľ ¬ę–ź–Ľ–ĺ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł¬Ľ)[4]. –ź–≤—ā–ĺ—Ä –ĺ—ā–ľ–Ķ—á–į–Ķ—ā, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ —Ä–Ķ—ą–ł–Ľ—Ā—Ź –Ĺ–į –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł—é –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł –Ņ–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ—á–ł—Ā–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—Ć–Ī–į–ľ —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ, –∂–Ķ–Ľ–į–≤—ą–ł—Ö —É–∑–Ĺ–į—ā—Ć –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ –ĺ —Ā–ĺ–Ī—č—ā–ł—Ź—Ö –Ę—Ä–Ķ—ā—Ć–Ķ–Ļ —ć–Ņ–ĺ—Ö–ł –ł, –≤ –ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, –ĺ —Ö–ĺ–Ī–Ī–ł—ā–į—Ö. –Ę–ł–ľ–ľ–ĺ–Ĺ—Ā –∑–į–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ –≤—č—Ā—ā—É–Ņ–ł–Ľ —Ā—Ä–į–∑—É –≤ –ī–≤—É—Ö —Ä–ĺ–Ľ—Ź—Ö ‚ÄĒ –į–≤—ā–ĺ—Ä–į —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į –ł —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑—á–ł–ļ–į-–Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≤–ĺ–ī—á–ł–ļ–į —á—É–∂–ĺ–Ļ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł, –Ņ—Ä–ł—á—Ď–ľ —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –ĺ—ā–ī–Ķ–Ľ–ł—ā—Ć –ĺ–ī–Ĺ–ĺ –ĺ—ā –ī—Ä—É–≥–ĺ–≥–ĺ[4]. –ü—Ä–Ķ–ī–ł—Ā–Ľ–ĺ–≤–ł–Ķ –ļ–ĺ –≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ—É –ł–∑–ī–į–Ĺ–ł—é (1965) –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ, –Ĺ–į –Ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ļ—Ä–į—ā–Ĺ–ĺ —Ā—Ā—č–Ľ–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł. –ě–Ĺ–ĺ –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į–Ķ—ā—Ā—Ź —Ā –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–ł—Ź ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ, –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —á–Ķ–≥–ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į–Ķ—ā—Ā—Ź, —á—ā–ĺ —Ö–ĺ—ā–Ķ–Ľ –Ņ–ĺ–Ņ—Ä–ĺ–Ī–ĺ–≤–į—ā—Ć –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć ¬ę–ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ—É—é –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—鬼, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –Ī—č —É–ī–Ķ—Ä–∂–ł–≤–į–Ľ–į –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł–Ķ —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ, —Ä–į–∑–≤–Ľ–Ķ–ļ–į–Ľ–į, –≤–ĺ—Ā—Ö–ł—Č–į–Ľ–į –ł—Ö, –į –ł–Ĺ–ĺ–≥–ī–į, –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ, –≤–ī–ĺ—Ö–Ĺ–ĺ–≤–Ľ—Ź–Ľ–į –ł—Ö –ł–Ľ–ł –≥–Ľ—É–Ī–ĺ–ļ–ĺ –≤–ĺ–Ľ–Ĺ–ĺ–≤–į–Ľ–į. –Ę–į–ļ–∂–Ķ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł–Ľ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–į–ľ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ņ–ĺ—Ā—á–ł—ā–į–Ľ–ł –Ķ–≥–ĺ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ ¬ę—Ā–ļ—É—á–Ĺ—č–ľ, –į–Ī—Ā—É—Ä–ī–Ĺ—č–ľ –ł–Ľ–ł –ī–ĺ—Ā—ā–ĺ–Ļ–Ĺ—č–ľ –Ņ—Ä–Ķ–∑—Ä–Ķ–Ĺ–ł—Ź¬Ľ, —á—ā–ĺ —É –Ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ—ā –Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ –∂–į–Ľ–ĺ–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź, —ā–į–ļ –ļ–į–ļ —É –Ĺ–Ķ–≥–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ–≥–ĺ —ā–į–ļ–ĺ–Ķ –∂–Ķ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź—Ö —ć—ā–ł—Ö –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤ –ł –ĺ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ķ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—É—é –ĺ–Ĺ–ł –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ—á–ł—ā–į—é—ā. –ź–≤—ā–ĺ—Ä –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į–Ľ –Ĺ–į–Ľ–ł—á–ł–Ķ –≤ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–Ķ ¬ę–ī–Ķ—Ą–Ķ–ļ—ā–ĺ–≤¬Ľ, –≤—č–ī–Ķ–Ľ–ł–≤ –ĺ–ī–ł–Ĺ: ¬ę–ļ–Ĺ–ł–≥–į —Ā–Ľ–ł—ą–ļ–ĺ–ľ –ļ–ĺ—Ä–ĺ—ā–ļ–į—Ź¬Ľ. –Ę–ł–ľ–ľ–ĺ–Ĺ—Ā –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –∑–ī–Ķ—Ā—Ć –Ņ—Ä–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–∂–ł–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—Ź –į–≤—ā–ĺ—Ä–į[5]. –Ę–į–ļ–∂–Ķ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ –Ĺ–Ķ —Ā–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–ł—ā –Ĺ–ł–ļ–į–ļ–ł—Ö –į–Ľ–Ľ–Ķ–≥–ĺ—Ä–ł–Ļ –ł –į–Ľ–Ľ—é–∑–ł–Ļ –Ĺ–į —Ā–ĺ–Ī—č—ā–ł—Ź XX –≤–Ķ–ļ–į (–≤ —á–į—Ā—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, –Ĺ–į –í—ā–ĺ—Ä—É—é –ľ–ł—Ä–ĺ–≤—É—é –≤–ĺ–Ļ–Ĺ—É), –ł —á—ā–ĺ –Ņ–ĺ–Ņ—č—ā–ļ–ł –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–ł—ā—Ć –ł—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ–ł–ļ–ł –≤–Ľ–ł—Ź–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–į –į–≤—ā–ĺ—Ä–į —Ź–≤–Ľ—Ź—é—ā—Ā—Ź –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ ¬ę–ī–ĺ–≥–į–ī–ļ–į–ľ–ł¬Ľ. –Ę–ł–ľ–ľ–ĺ–Ĺ—Ā –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ, —á—ā–ĺ —ć—ā–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ –≤—č–∑–≤–į–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ł—Ź—ā–ł–Ķ–ľ –į–≤—ā–ĺ—Ä–į —Ä–į–Ĺ–Ĺ–ł—Ö –ļ—Ä–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ņ—Ä–Ķ—ā–į—Ü–ł–Ļ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –ł —á—ā–ĺ –ļ —ć—ā–ł–ľ –∑–į—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź–ľ —Ā—ā–ĺ–ł—ā –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā—Ć—Ā—Ź —Ā–ļ–Ķ–Ņ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł, —ā–į–ļ –ļ–į–ļ —Ā–į–ľ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ –ī–Ķ–Ľ–į–Ľ –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ—č–Ķ ¬ę–ī–ĺ–≥–į–ī–ļ–ł¬Ľ, –į–Ĺ–į–Ľ–ł–∑–ł—Ä—É—Ź —ā–Ķ–ļ—Ā—ā—č ¬ę–°—ć—Ä–į –ď–į–≤–Ķ–Ļ–Ĺ–į¬Ľ, ¬ę–Ď–Ķ–ĺ–≤—É–Ľ—Ć—Ą–į¬Ľ –ł ¬ę–ú–į–Ľ–ī–ĺ–Ĺ–į¬Ľ. –Ę–ł–ľ–ľ–ĺ–Ĺ—Ā –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į —Ä–į–∑–ī—Ä–į–∂–į–Ľ–ł –∑–į—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤ –ĺ —ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ –≤ –°—Ä–Ķ–ī–ł–∑–Ķ–ľ—Ć–Ķ ¬ę–Ĺ–Ķ—ā —Ä–Ķ–Ľ–ł–≥–ł–ł¬Ľ –ł ¬ę–Ĺ–Ķ—ā –∂–Ķ–Ĺ—Č–ł–ŬĽ –ł —á—ā–ĺ –ĺ–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ł–ľ –ľ–ł—Ä ‚ÄĒ —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –Ĺ–į—ą–į –ó–Ķ–ľ–Ľ—Ź, –į –ļ–į–ļ–į—Ź-—ā–ĺ –ī—Ä—É–≥–į—Ź –Ņ–Ľ–į–Ĺ–Ķ—ā–į. –ė–∑ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –Ę–ł–ľ–ľ–ĺ–Ĺ—Ā —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–Ľ –≤—č–≤–ĺ–ī, —á—ā–ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ –≤ —Ü–Ķ–Ľ–ĺ–ľ —Ä–į—Ā—Ā–ľ–į—ā—Ä–ł–≤–į–Ľ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ—É —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į –ļ–į–ļ ¬ę–Ĺ–Ķ–∂–Ķ–Ľ–į—ā–Ķ–Ľ—Ɩŗɗ鬼. –Ę–į–ļ–∂–Ķ –Ę–ł–ľ–ľ–ĺ–Ĺ—Ā –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –ļ–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–ł–ł —Ā–į–ľ–ĺ–≥–ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —Ā–≤–ĺ–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ —Ź–≤–Ľ—Ź—é—ā—Ā—Ź ¬ę—Ä–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ–ł–∑–į—Ü–ł—Ź–ľ–ł¬Ľ –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ą–į–ļ—ā—É–ľ –ł —á–į—Ā—ā–ĺ –Ī—č–Ľ–ł –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ—Ä–Ķ—á–ł–≤—č–ľ–ł, –ł—Ā—Ö–ĺ–ī—Ź –ł–∑ —á–Ķ–≥–ĺ –ł—Ö –Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ –į–Ĺ–į–Ľ–ł–∑–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć –ĺ–Ī—ä–Ķ–ļ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ, –į –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –Ņ—Ä–ł–Ĺ–ł–ľ–į—ā—Ć –Ĺ–į –≤–Ķ—Ä—É –Ī–Ķ–∑ —É—á—Ď—ā–į –ļ–ĺ–Ĺ—ā–Ķ–ļ—Ā—ā–į[6]. –†–į–Ĺ–Ĺ–ł–Ķ –Ņ–ĺ–∑–ł—ā–ł–≤–Ĺ—č–Ķ –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ļ–ł–†–į–Ĺ–Ĺ–ł–Ķ –ĺ–Ī–∑–ĺ—Ä—č ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ —á—Ď—ā–ļ–ĺ –ī–Ķ–Ľ–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ–į –ī–≤–Ķ –ļ–į—ā–Ķ–≥–ĺ—Ä–ł–ł: –≤–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ä–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ–į—Ź –Ņ–ĺ–ī–ī–Ķ—Ä–∂–ļ–į –ł–Ľ–ł –∂—Ď—Ā—ā–ļ–ĺ–Ķ –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ł—Ź—ā–ł–Ķ. –Ě–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā–ĺ—Ä—č —Ā—Ä–į–∑—É –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–ł —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į –≤—č—Ā–ļ–į–∑–į–Ľ–ł –Ķ–ľ—É –≥–ĺ—Ä—Ź—á—É—é –Ņ–ĺ–ī–ī–Ķ—Ä–∂–ļ—É. –ü–ĺ—ć—ā –£–ł—Ā—ā–Ķ–Ĺ –•—Ć—é –ě–ī–Ķ–Ĺ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ľ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ ¬ę—ą–Ķ–ī–Ķ–≤—Ä–ĺ–ľ¬Ľ, –≤ —á—Ď–ľ-—ā–ĺ –Ņ—Ä–Ķ–≤–ĺ—Ā—Ö–ĺ–ī—Ź—Č–ł–ľ ¬ę–ü–ĺ—ā–Ķ—Ä—Ź–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —Ä–į–Ļ¬Ľ –Ē–∂–ĺ–Ĺ–į –ú–ł–Ľ—Ć—ā–ĺ–Ĺ–į[7]. –ö–Ķ–Ĺ–Ĺ–Ķ—ā –§. –°–Ľ–Ķ–Ļ—ā–Ķ—Ä –∑–į–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ: ¬ę–Ķ—Ā–Ľ–ł –≤—č –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—á–ł—ā–į–Ķ—ā–Ķ –Ķ—Ď, –≤—č —É–Ņ—É—Ā—ā–ł—ā–Ķ –ĺ–ī–Ĺ—É –ł–∑ –Ľ—É—á—ą–ł—Ö –ļ–Ĺ–ł–≥ –≤ —Ā–≤–ĺ—Ď–ľ –∂–į–Ĺ—Ä–Ķ¬Ľ[8][9]. –ú–į–Ļ–ļ–Ľ –°—ā—Ä–Ķ–Ļ—ā[–į–Ĺ–≥–Ľ.] –≤ —Ä–Ķ—Ü–Ķ–Ĺ–∑–ł–ł –ī–Ľ—Ź The New Republic –ĺ–Ņ–ł—Ā–į–Ľ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ –ļ–į–ļ ¬ę–ĺ–ī–Ĺ–ĺ –ł–∑ –Ĺ–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł—Ö –≥–Ķ–Ĺ–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –≤ —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ķ¬Ľ[10]. –ü–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –ł –ī—Ä—É–≥ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –ö–Ľ–į–Ļ–≤ –°—ā–Ķ–Ļ–Ņ–Ľ–∑ –õ—Ć—é–ł—Ā –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ľ –≤–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ä–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ĺ—ā–∑—č–≤ –Ĺ–į –ļ–Ĺ–ł–≥—É, –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–≤ –Ī–ĺ–≥–į—ā—č–Ļ —Ā—é–∂–Ķ—ā, –į —ā–į–ļ–∂–Ķ —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ—č—Ö –Ņ–Ķ—Ä—Ā–ĺ–Ĺ–į–∂–Ķ–Ļ: —É –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö ¬ę—Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł—Ö¬Ľ –≥–Ķ—Ä–ĺ–Ķ–≤ –Ķ—Ā—ā—Ć —ā—Ď–ľ–Ĺ–į—Ź —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–į, —Ä–į–≤–Ĺ–ĺ –ļ–į–ļ –ł ¬ę–ī–ĺ–Ī—Ä—č–Ķ –Ņ–ĺ–Ī—É–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź¬Ľ —É –∑–Ľ–ĺ–ī–Ķ–Ķ–≤[11]. –ü–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü–į –ź–Ļ—Ä–ł—Ā –ú–Ķ—Ä–ī–ĺ–ļ, —É–Ņ–ĺ–ľ–ł–Ĺ–į–≤—ą–į—Ź –Ņ–Ķ—Ä—Ā–ĺ–Ĺ–į–∂–Ķ–Ļ –°—Ä–Ķ–ī–ł–∑–Ķ–ľ—Ć—Ź –≤ —Ā–≤–ĺ–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź—Ö, –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ľ–į, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ–į ¬ę—Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –≤–ĺ—Ā—Ö–ł—Č–Ķ–Ĺ–į, —É–≤–Ľ–Ķ—á–Ķ–Ĺ–į –ł –Ņ–ĺ–≥–Ľ–ĺ—Č–Ķ–Ĺ–į¬Ľ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–ĺ–ľ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ[12][13]. –ü–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –ł –Ņ–ĺ—ć—ā –†–ł—á–į—Ä–ī –•—Ć—é–∑ –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –≤ –į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ķ –Ĺ–Ķ –≤—č—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–ĺ –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ—É –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į —Ā–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ď–Ĺ ¬ę–ö–ĺ—Ä–ĺ–Ľ–Ķ–≤—č —Ą–Ķ–Ļ¬Ľ –≠–ī–ľ—É–Ĺ–ī–į –°–Ņ–Ķ–Ĺ—Ā–Ķ—Ä–į (–ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—Ü XVI –≤–Ķ–ļ–į). –ü–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é –•—Ć—é–∑–į, —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į–Ķ—ā —Ā–Ķ–Ī–Ķ —Ä–į–≤–Ĺ—č—Ö ¬ę–Ņ–ĺ —ą–ł—Ä–ĺ—ā–Ķ –≤–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź¬Ľ –ł –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ —Ā –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ł–ľ –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ –ľ–į—Ā—ā–Ķ—Ä—Ā—ā–≤–ĺ–ľ, –Ņ—Ä–į–≤–ī–ĺ–Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ –ł —É–≤–Ľ–Ķ–ļ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ[14]. –í 1957 –≥–ĺ–ī—É —ć–ļ—Ā–Ņ–Ķ—Ä—ā –Ņ–ĺ –ļ–Ľ–į—Ā—Ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ķ –Ē—É–≥–Ľ–į—Ā –ü–į—Ä–ļ–Ķ—Ä[–į–Ĺ–≥–Ľ.] –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ľ —Ā—ā–į—ā—Ć—é ¬ęHwaet We Holbytla‚Ķ¬Ľ[a], –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ –ł–∑ –Ņ–Ķ—Ä–≤—č—Ö –≤—č—Ā—ā—É–Ņ–ł–Ľ –≤ –∑–į—Č–ł—ā—É ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –ĺ—ā –Ĺ–į–Ņ–į–ī–ĺ–ļ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤, –Ĺ–į–∑–≤–į–≤ —Ä–Ķ—Ü–Ķ–Ĺ–∑–ł—é –≠–ī–ľ—É–Ĺ–ī–į –£–ł–Ľ—Ā–ĺ–Ĺ–į (—Ā–ľ. –Ĺ–ł–∂–Ķ) ¬ę–ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –≥–Ĺ—É—Ā–Ĺ—č–ľ –Ņ–į—Ā–ļ–≤–ł–Ľ–Ķ–ľ¬Ľ, –≤—č–∑–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ł—Ź–∑–Ĺ—Ć—é –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–į –ļ –∂–į–Ĺ—Ä—É —Ą—ć–Ĺ—ā–Ķ–∑–ł –≤ —Ü–Ķ–Ľ–ĺ–ľ[15]. –ü–į—Ä–ļ–Ķ—Ä –Ņ–ĺ–ī—á–Ķ—Ä–ļ–Ĺ—É–Ľ –ĺ—Ä–ł–≥–ł–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ł –Ĺ–ĺ–≤–ł–∑–Ĺ—É —ā–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–ĺ–≤—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į[15]. –®–ĺ—ā–Ľ–į–Ĺ–ī—Ā–ļ–į—Ź –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ü–į –Ě–į–ĺ–ľ–ł –ú–ł—ā—á–ł—Ā–ĺ–Ĺ —ā–į–ļ–∂–Ķ –Ī—č–Ľ–į –Ņ–ĺ–ļ–Ľ–ĺ–Ĺ–Ĺ–ł—Ü–Ķ–Ļ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –ł –≤–Ķ–Ľ–į —Ā –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–ĺ–ľ –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ņ–ł—Ā–ļ—É –Ņ–ĺ –Ņ–ĺ–≤–ĺ–ī—É —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į –ļ–į–ļ –ī–ĺ, —ā–į–ļ –ł –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ķ–≥–ĺ –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–ł[16][17]. –ö—Ä–ł—ā–ł–ļ –£–ł–Ľ—Ć—Ź–ľ –†–ĺ–Ī–Ķ—Ä—ā –ė—Ä–≤–ł–Ĺ[18] –Ĺ–į–∑–≤–į–Ľ –†–ĺ–ľ–į–Ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į ¬ę—Ā–į–ľ–ĺ–Ļ –≤–Ņ–Ķ—á–į—ā–Ľ—Ź—é—Č–Ķ–Ļ¬Ľ –ļ–Ĺ–ł–≥–ĺ–Ļ –≤ –∂–į–Ĺ—Ä–Ķ —Ą—ć–Ĺ—ā–Ķ–∑–ł XX –≤–Ķ–ļ–į[19][20]. –í 1967 –≥–ĺ–ī—É –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–ĺ–≤–Ķ–ī –Ē–∂–ĺ—Ä–ī–∂ –•. –Ę–ĺ–ľ—Ā–ĺ–Ĺ –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ĺ –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ł–Ľ –ľ–į—Ā—ā–Ķ—Ä—Ā—ā–≤–ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –≤ –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–ł –≤ —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–Ķ –į—Ā–Ņ–Ķ–ļ—ā–ĺ–≤ —Ä—č—Ü–į—Ä—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į —Ā–ĺ —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ–Ļ —ā–Ķ—Ö–Ĺ–ł–ļ–ĺ–Ļ ¬ę–Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ņ–Ľ–Ķ—ā–Ķ–Ĺ–ł—Ź¬Ľ –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź[21]. –ź–ľ–Ķ—Ä–ł–ļ–į–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ļ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć-—Ą–į–Ĺ—ā–į—Ā—ā –õ–į–Ļ–ĺ–Ĺ –°–Ņ—Ä—ć–≥ –Ē–Ķ –ö–į–ľ–Ņ –≤ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–≥–Ķ Literary Swordsmen and Sorcerers: The Makers of Heroic Fantasy –Ņ—Ä–ĺ–≤—Ď–Ľ —Ä–į–∑–Ľ–ł—á–ł–Ķ –ľ–Ķ–∂–ī—É ¬ę–ī–Ķ—ą—Ď–≤—č–ľ–ł¬Ľ —Ą–į–Ĺ—ā–į—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ–ł –ļ–Ĺ–ł–≥–į–ľ–ł –ĺ ¬ę–ľ–Ķ—á–į—Ö –ł –ļ–ĺ–Ľ–ī–ĺ–≤—Ā—ā–≤–Ķ¬Ľ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā–≤—É—é—ā –ĺ –≤–į—Ä–≤–į—Ä–į—Ö, –≤–Ķ–ī—É—Č–ł—Ö —Ā–Ķ–Ī—Ź –ļ–į–ļ ¬ę–ł–Ĺ—Ą–į–Ĺ—ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –Ņ—Ä–Ķ—Ā—ā—É–Ņ–Ĺ–ł–ļ–ł¬Ľ, –ł ¬ę—ć–Ņ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ–ł¬Ľ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź–ľ–ł, –≥–Ķ—Ä–ĺ–ł –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö —Ā –Ī–Ľ–į–≥–ĺ—Ä–ĺ–ī—Ā—ā–≤–ĺ–ľ –ł —Ā–į–ľ–ĺ–Ņ–ĺ–∂–Ķ—Ä—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ ¬ę–ĺ—ā–Ņ—Ä–į–≤–Ľ—Ź—é—ā—Ā—Ź –≤ –ī–Ľ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –ĺ–ī–ł–Ĺ–ĺ—á–Ĺ—č–Ķ –Ņ–ĺ—Ö–ĺ–ī—č –ł –ĺ–Ī—Č–į—é—ā—Ā—Ź —Ā–ĺ —Ā–≤–Ķ—Ä—Ö—ä–Ķ—Ā—ā–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–į–ľ–ł¬Ľ. –ö –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł–ľ –ĺ–Ĺ –ĺ—ā–Ĺ—Ď—Ā ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ, –Ņ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é –Ē–Ķ –ö–į–ľ–Ņ–į, –ī–į–Ľ –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –≤–ĺ–∑—Ä–ĺ–ī–ł—ā—Ć—Ā—Ź —É–ľ–ł—Ä–į—é—Č–Ķ–ľ—É –∂–į–Ĺ—Ä—É —Ą—ć–Ĺ—ā–Ķ–∑–ł[22]. –ü–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü–į –£—Ä—Ā—É–Ľ–į –Ľ–Ķ –ď—É–ł–Ĺ, –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į–≤—ą–į—Ź –≤–Ľ–ł—Ź–Ĺ–ł–Ķ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –Ĺ–į —Ā–≤–ĺ–ł –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –≤ —Ā–Ī–ĺ—Ä–Ĺ–ł–ļ–Ķ —ć—Ā—Ā–Ķ ¬ę–Į–∑—č–ļ –Ĺ–ĺ—á–ł¬Ľ —Ä–į—Ā—Ā—É–∂–ī–į–Ľ–į –Ĺ–į —ā–Ķ–ľ—č —ć—Ā–ļ–į–Ņ–ł–∑–ľ–į –≤ —Ą—ć–Ĺ—ā–Ķ–∑–ł, —Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł —Ö–į—Ä–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ĺ–≤ –Ņ–Ķ—Ä—Ā–ĺ–Ĺ–į–∂–Ķ–Ļ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –ł —ā–Ķ–ľ—č –ī–ĺ–Ī—Ä–į –ł –∑–Ľ–į –≤ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–Ķ[23]. –Ę–į–ļ–∂–Ķ –ĺ–Ĺ–į –Ņ–ĺ—Ö–≤–į–Ľ–ł–Ľ–į —Ā—ā–ł–Ľ—Ć —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į, –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–≤, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ ¬ę–≥–ł–Ī–ļ–ł–Ļ¬Ľ –ł —Ä–į–∑–Ĺ–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ—č–Ļ, –≤–į—Ä—Ć–ł—Ä—É–Ķ—ā—Ā—Ź ¬ę–ĺ—ā –ĺ–Ī—č–ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ī–ĺ –≤–Ķ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ļ—ā–ł –≤ –ľ–Ķ—ā—Ä–ł—á–Ķ—Ā–ļ—É—é –Ņ–ĺ—ć–∑–ł—鬼[24][25]. –õ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–į—Ź –≤—Ä–į–∂–ī–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā—ĆXX –≤–Ķ–ļ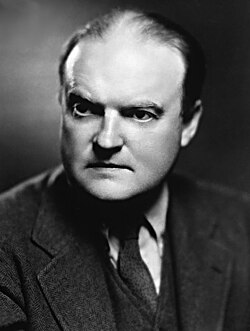 –Ě–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā–ĺ—Ä—č –ł –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ź–Ľ–ł. –Ē–į–∂–Ķ –≤–Ĺ—É—ā—Ä–ł –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ –≥—Ä—É–Ņ–Ņ—č ¬ę–ė–Ĺ–ļ–Ľ–ł–Ĺ–≥–ĺ–≤¬Ľ, –ļ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ł–Ĺ–į–ī–Ľ–Ķ–∂–į–Ľ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ, –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ļ–ł —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į —Ä–į–∑–Ľ–ł—á–į–Ľ–ł—Ā—Ć. –•—Ć—é–≥–ĺ –Ē–į–Ļ—Ā–ĺ–Ĺ[–į–Ĺ–≥–Ľ.] –≥—Ä–ĺ–ľ–ļ–ĺ –≤—č—Ä–į–∂–į–Ľ —Ā–≤–ĺ—Ď –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ł—Ź—ā–ł–Ķ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł (¬ę–Ę–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ĺ–Ķ –ĺ—á–Ķ—Ä–Ķ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–ĺ–Ľ–Ī–į–Ĺ—č–Ļ —ć–Ľ—Ć—Ą!¬Ľ)[27]. –í 1956 –≥–ĺ–ī—É –ú–į—Ä–ļ –†–ĺ–Ī–Ķ—Ä—ā—Ā –≤ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ ¬ę–ü—Ä–ł–ļ–Ľ—é—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–ĺ-–į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ł¬Ľ —Ä–į—Ā–ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ľ —Ā—ā–ł–Ľ—Ć –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į, –∑–į–ľ–Ķ—ā–ł–≤ –Ņ—Ä–ł —ć—ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ ¬ę—Ā–Ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł—ā—Ć –ĺ —Ā—ā–ł–Ľ–Ķ, –ļ–ĺ–≥–ī–į —Ā—ā–ł–Ľ–ł –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–Ĺ–ĺ –ł —Ä–į–ī–ł–ļ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ľ–Ķ–Ĺ—Ź—é—ā—Ā—Ź¬Ľ –ł –Ĺ–į–∑–≤–į–Ľ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ ¬ę–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ –Ņ—Ä–ł–ļ–Ľ—é—á–Ķ–Ĺ—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–Ķ–Ļ¬Ľ[28]. –í 1956 –≥–ĺ–ī—É –≤—č—ą–Ľ–į —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–į –≠–ī–ľ—É–Ĺ–ī–į –£–ł–Ľ—Ā–ĺ–Ĺ–į ¬ę–ě-–ĺ, —ć—ā–ł –ļ–ĺ—ą–ľ–į—Ä–Ĺ—č–Ķ –ĺ—Ä–ļ–ł!¬Ľ, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –£–ł–Ľ—Ā–ĺ–Ĺ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ľ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ ¬ę–ł–Ĺ—Ą–į–Ĺ—ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ –ľ—É—Ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ¬Ľ –ł –∑–į–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ: ¬ę–ī–ĺ–ļ—ā–ĺ—Ä—É –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ—É –Ĺ–Ķ–ī–ĺ—Ā—ā–į—Ď—ā –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –Ĺ–į–≤—č–ļ–ĺ–≤ –ł —É –Ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ—ā –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł–Ĺ—Ā—ā–ł–Ĺ–ļ—ā–į¬Ľ[26][b]. –í 1954 –≥–ĺ–ī—É —ą–ĺ—ā–Ľ–į–Ĺ–ī—Ā–ļ–ł–Ļ –Ņ–ĺ—ć—ā –≠–ī–≤–ł–Ĺ –ú—é–ł—Ä —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–Ľ –ĺ–Ī–∑–ĺ—Ä –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–≥–ĺ —ā–ĺ–ľ–į —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į, –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–≤: ¬ę–ļ–į–ļ –Ĺ–ł –≤–∑–≥–Ľ—Ź–Ĺ–ł –Ĺ–į ‚Äě–Ď—Ä–į—ā—Ā—ā–≤–ĺ –ö–ĺ–Ľ—Ć—Ü–į‚Äú, –Ĺ–ĺ —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ–ĺ–Ī—č–ļ–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–į—Ź –ļ–Ĺ–ł–≥–į¬Ľ. –ü—Ä–ł —ć—ā–ĺ–ľ –ĺ–Ĺ –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ľ, —á—ā–ĺ —Ö–ĺ—ā—Ź –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ ¬ę–ĺ–Ņ–ł—Ā—č–≤–į–Ķ—ā –ļ–ĺ–Ľ–ĺ—Ā—Ā–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –ļ–ĺ–Ĺ—Ą–Ľ–ł–ļ—ā –ī–ĺ–Ī—Ä–į –ł –∑–Ľ–į¬Ľ, –Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –≥–Ķ—Ä–ĺ–ł –Ĺ–Ķ–ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ī–ĺ–Ī—Ä—č, –į –∑–Ľ–ĺ–ī–Ķ–ł –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–Ķ–ļ–Ľ–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ –∑–Ľ—č"[31]. –ě–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –≤—č—Ö–ĺ–ī–į ¬ę–í–ĺ–∑–≤—Ä–į—Č–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ļ–ĺ—Ä–ĺ–Ľ—Ź¬Ľ –ú—é–ł—Ä –≤—č—Ā–ļ–į–∑–į–Ľ—Ā—Ź –ĺ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–Ķ –Ĺ–Ķ–≥–į—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ: ¬ę–í—Ā–Ķ –Ņ–Ķ—Ä—Ā–ĺ–Ĺ–į–∂–ł ‚ÄĒ –ľ–į–Ľ—Ć—á–ł—ą–ļ–ł, –≤—č—Ä—Ź–ī–ł–≤—ą–ł–Ķ—Ā—Ź –≤ –ĺ–ī–Ķ–∂–ī—č –≤–∑—Ä–ĺ—Ā–Ľ—č—Ö –≥–Ķ—Ä–ĺ–Ķ–≤ ‚Ķ —ć—ā–ł –ī–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ĺ–Ļ –∑—Ä–Ķ–Ľ–ĺ—Ā—ā–ł –Ĺ–ł–ļ–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–Ķ –ī–ĺ—Ä–į—Ā—ā—É—ā ‚Ķ –ē–ī–≤–į –Ľ–ł –ļ—ā–ĺ-—ā–ĺ –ł–∑ –Ĺ–ł—Ö —Ä–į–∑–Ī–ł—Ä–į–Ķ—ā—Ā—Ź –≤ –∂–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ–į—Ö¬Ľ, —á—ā–ĺ —Ä–į–∑–ĺ–∑–Ľ–ł–Ľ–ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į: –≤ –Ņ–ł—Ā—Ć–ľ–Ķ –ļ —Ā–≤–ĺ–Ķ–ľ—É –ł–∑–ī–į—ā–Ķ–Ľ—é –ĺ–Ĺ –≤ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā –ĺ–Ī–≤–ł–Ĺ–ł–Ľ –ú—é–ł—Ä–į –≤ ¬ę–Ņ–ĺ–ī—Ä–ĺ—Ā—ā–ļ–ĺ–≤–ĺ–ľ –ł–Ĺ—Ą–į–Ĺ—ā–ł–Ľ–ł–∑–ľ–Ķ¬Ľ[32]. –í 1961 –≥–ĺ–ī—É –≤ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ ¬ę–†–į–∑–Ĺ–ĺ–≥–Ľ–į—Ā–ł—Ź —Ā—Ä–Ķ–ī–ł —Ā—É–ī–Ķ–Ļ¬Ľ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –§–ł–Ľ–ł–Ņ –Ę–ĺ–Ļ–Ĺ–Ī–ł –∑–į—Ź–≤–ł–Ľ, —á—ā–ĺ ¬ę—Ą–į–Ĺ—ā–į–∑–ł–ł –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ĺ—Ä–į –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –ĺ —Ö–ĺ–Ī–Ī–ł—ā–į—Ö ‚Ķ —Ā–ļ—É—á–Ĺ—č–Ķ, –Ņ–Ľ–ĺ—Ö–ĺ –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ, –Ņ—Ä–ł—á—É–ī–Ľ–ł–≤—č–Ķ –ł —Ä–Ķ–Ī—Ź—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ‚Ķ [—É–∂–Ķ] –ļ–į–Ĺ—É–Ľ–ł –≤ –ľ–ł–Ľ–ĺ—Ā–Ķ—Ä–ī–Ĺ–ĺ–Ķ –∑–į–Ī–≤–Ķ–Ĺ–ł–Ķ¬Ľ[33][34]. –ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ—Ź—Ź —á–į—Ā—ā—Ć –∑–į—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ę–ĺ–Ļ–Ĺ–Ī–ł –≤–Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī—Ā—ā–≤–ł–ł –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ–ļ—Ä–į—ā–Ĺ–ĺ —Ü–ł—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ–į—Ā—Ć –ļ–į–ļ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ—Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ļ–ł[35][36]. –í 1962 –≥–ĺ–ī—É –≠–ī–ľ—É–Ĺ–ī –§—É–Ľ–Ľ–Ķ—Ä[–į–Ĺ–≥–Ľ.] –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–≤—č–Ķ –≤–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ä–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ĺ—ā–∑—č–≤—č –ĺ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–Ķ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –≤—č–∑–≤–į–Ľ–ł ¬ę–Ĺ–Ķ–ł–∑–Ī–Ķ–∂–Ĺ—É—é –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–Ĺ—É—é —Ä–Ķ–į–ļ—Ü–ł—鬼 –≤ –≤–ł–ī–Ķ —Ź—Ä–ĺ—Ā—ā–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ –Ņ–ĺ—Ā—á–ł—ā–į–Ľ ¬ę–Ķ—Ā—ā–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ĺ–Ņ–į—Ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ɨ鬼 –ī–Ľ—Ź –Ľ—é–Ī–ĺ–Ļ —É–Ĺ–ł–ļ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–Ľ—Ź —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–ł —Ä–į–Ī–ĺ—ā—č"[34][37]. –í 1969 –≥–ĺ–ī—É –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü–į —Ą–Ķ–ľ–ł–Ĺ–ł–∑–ľ–į –ö—ć—ā—Ä–ł–Ĺ –†. –°—ā–ł–ľ–Ņ—Ā–ĺ–Ĺ[–į–Ĺ–≥–Ľ.] –ĺ–Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ľ–į –ļ–Ĺ–ł–≥—É –ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–Ķ, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ľ–į –Ķ–≥–ĺ ¬ę–Ĺ–Ķ–ł—Ā–Ņ—Ä–į–≤–ł–ľ—č–ľ –Ĺ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ–ł—Ā—ā–ĺ–ľ¬Ľ, –≤–ĺ—Ā—Ö–≤–į–Ľ—Ź—é—Č–ł–ľ ¬ę–į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ—É—é –Ī—É—Ä–∂—É–į–∑–Ĺ—É—é –Ņ–į—Ā—ā–ĺ—Ä–į–Ľ—Ć–Ĺ—É—é –ł–ī–ł–Ľ–Ľ–ł—鬼, –į –Ņ–Ķ—Ä—Ā–ĺ–Ĺ–į–∂–Ķ–Ļ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –ĺ—Ö–į—Ä–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ł–∑–ĺ–≤–į–Ľ–į –ļ–į–ļ ¬ę—Ä–į–∑–ī—Ä–į–∂–į—é—Č–ł—Ö, –Ņ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ—č—Ö, —ā—Ä–į–ī–ł—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ľ–į—Ā–ļ—É–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ—č—Ö¬Ľ –ł ¬ę–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–ľ–Ķ—Ä–Ĺ—č—Ö¬Ľ. –Ė–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ł–Ķ –Ņ–Ķ—Ä—Ā–ĺ–Ĺ–į–∂–ł —É –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į, –Ņ–ĺ –Ķ—Ď –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é, —Ā—ā–Ķ—Ä–Ķ–ĺ—ā–ł–Ņ–Ĺ—č, –≤—Ā–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź —á—É–≤—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ł —Ā–Ķ–ļ—Ā—É–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –≤ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–Ķ ¬ę—É–ļ–Ľ–ĺ–Ĺ—á–ł–≤—謼 –ł ¬ę–ł–Ĺ—Ą–į–Ĺ—ā–ł–Ľ—Ɩŗ謼. –í –ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ķ –®–Ķ–Ľ–ĺ–Ī –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ, –Ņ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é –°—ā–ł–ľ–Ņ—Ā–ĺ–Ĺ, –≤—č—Ä–į–∑–ł–Ľ —Ā–≤–ĺ—Ď –Ņ—Ä–Ķ–∑—Ä–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ –∂–Ķ–Ĺ—Č–ł–Ĺ–į–ľ, —Ā ¬ę–Ľ–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ¬Ľ –ĺ–Ņ–ł—Ā–į–≤, –ļ–į–ļ –Ņ–į—É—á–ł—Ö–į —Ā–į–ľ–į –Ĺ–į—Ā–į–ī–ł–Ľ–į—Ā—Ć –Ĺ–į –ļ–ł–Ĺ–∂–į–Ľ –°—ć–ľ–į ¬ę–≥–ī–Ķ-—ā–ĺ –≤ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–Ķ –ľ–į—ā–ļ–ł¬Ľ, –Ņ–ĺ–ļ–į–∑–į–≤, –ļ–į–ļ ¬ę–ľ–į–Ľ–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–į—Ź, –Ĺ–ĺ —Ö—Ä–į–Ī—Ä–į—Ź –ľ—É–∂—Ā–ļ–į—Ź —Ą–ł–≥—É—Ä–į –ī–ĺ—Ā—ā–į—Ď—ā –ĺ–≥—Ä–ĺ–ľ–Ĺ—É—é, –≤–ĺ–Ĺ—é—á—É—é —Ā—É–ļ—É-–ļ–į—Ā—ā—Ä–į—ā–ĺ—Ä—ą—ɬĽ. –Ę–į–ļ–∂–Ķ –°—ā–ł–ľ–Ņ—Ā–ĺ–Ĺ –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ–į: ¬ę–í –ĺ—ā–Ľ–ł—á–ł–Ķ –ĺ—ā –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł—Ö –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć —Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–ł—Ö —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ, –ĺ–Ĺ [–Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ] –Ĺ–Ķ –≥–ĺ–ľ–ĺ—Ā–Ķ–ļ—Ā—É–į–Ľ¬Ľ[38][23]. –õ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č–Ļ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ –ö–ĺ–Ľ–ł–Ĺ –ú—ć–Ĺ–Ľ–į–≤[–į–Ĺ–≥–Ľ.] –≤ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–≥–Ķ ¬ę–°–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ —Ą—ć–Ĺ—ā–Ķ–∑–ł¬Ľ (1978) –∑–į—Ź–≤–ł–Ľ, —á—ā–ĺ —É –≥–Ķ—Ä–ĺ–Ķ–≤ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –Ĺ–Ķ—ā –≤–Ĺ—É—ā—Ä–Ķ–Ĺ–Ĺ–Ķ–Ļ –Ī–ĺ—Ä—Ć–Ī—č (–≤—Ā—Ź –Ī–ĺ—Ä—Ć–Ī–į ¬ę–≤–Ĺ–Ķ—ą–Ĺ—Ź—Ź¬Ľ), –į —Ā–ł–Ľ—č –∑–Ľ–į –Ņ–ĺ–ļ–į–∑–į–Ĺ—č —Ä–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ–Ķ –ł —É–Ī–Ķ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ–Ķ, —á–Ķ–ľ —Ā–ł–Ľ—č –ī–ĺ–Ī—Ä–į, –Ņ—Ä–ł—á—Ď–ľ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł–Ķ –Ņ–ĺ–Ī–Ķ–∂–ī–į—é—ā —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ī–Ľ–į–≥–ĺ–ī–į—Ä—Ź —Ā–Ľ—É—á–į—é –ł –≤–Ķ–∑–ī–Ķ—Ā—É—Č–Ķ–Ļ ¬ę—É–ī–į—á–Ķ¬Ľ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—É—é –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ —Ā—á—Ď–Ľ –Ĺ–Ķ—É–Ī–Ķ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ. –Ę–į–ļ–∂–Ķ –ú—ć–Ĺ–Ľ–į–≤ —Ä–į—Ā–ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ľ —Ā—ā–ł–Ľ—Ć –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –ł –Ņ–ĺ—Ā—á–ł—ā–į–Ľ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ —Ā–Ľ–ł—ą–ļ–ĺ–ľ –ī–Ľ–ł–Ĺ–Ĺ—č–ľ[39]. –ü–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –≤ –∂–į–Ĺ—Ä–Ķ —Ą—ć–Ĺ—ā–Ķ–∑–ł –ú–į–Ļ–ļ–Ľ –ú—É—Ä–ļ–ĺ–ļ –≤ —Ā–≤–ĺ—Ď–ľ —ć—Ā—Ā–Ķ ¬ę–≠–Ņ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –ü—É—Ö¬Ľ (1978) —Ā—Ä–į–≤–Ĺ–ł–Ľ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ —Ā ¬ę–í–ł–Ĺ–Ĺ–ł-–ü—É—Ö–ĺ–ľ¬Ľ –ł –∑–į—Ź–≤–ł–Ľ, —á—ā–ĺ —ć—ā–ĺ ¬ę–ļ–ĺ–Ľ—č–Ī–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–į—Ź¬Ľ, ¬ę–Ņ—Ä–ł–∑–≤–į–Ĺ–Ĺ–į—Ź —É—Ā–Ņ–ĺ–ļ–į–ł–≤–į—ā—Ć –ł —É—ā–Ķ—ą–į—ā—ƬĽ. –ü–ĺ–ľ–ł–ľ–ĺ —ć—Ā–ļ–į–Ņ–ł–∑–ľ–į –ú—É—Ä–ļ–ĺ–ļ –ĺ–Ī–≤–ł–Ĺ–ł–Ľ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –≤ —É–Ľ—Ć—ā—Ä–į–ļ–ĺ–Ĺ—Ā–Ķ—Ä–≤–į—ā–ł–∑–ľ–Ķ, –į–Ĺ—ā–ł—É—Ä–Ī–į–Ĺ–ł–∑–ľ–Ķ –ł –į–Ĺ—ā–ł—ā–Ķ—Ö–Ĺ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł[40]. –ü–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü–į –ł –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č–Ļ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ –ö—Ä–ł—Ā—ā–ł–Ĺ –Ď—Ä—É–ļ-–†–ĺ—É–∑[–į–Ĺ–≥–Ľ.] –Ņ–ł—Ā–į–Ľ–į, —á—ā–ĺ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ ¬ę–Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≥—Ä—É–∂–Ķ–ŬĽ –ī–Ķ—ā–į–Ľ—Ź–ľ–ł, –ļ–į—Ā–į—é—Č–ł–ľ–ł—Ā—Ź —Ö—Ä–ĺ–Ĺ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–Ļ, –≥–Ķ–Ĺ–Ķ–į–Ľ–ĺ–≥–ł–Ļ –ł —Ź–∑—č–ļ–ĺ–≤, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ—č —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –į–≤—ā–ĺ—Ä—É –ł –≥—Ä—É–Ņ–Ņ–į–ľ –Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–ļ–Ľ–ĺ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤, –ł—Ā–Ņ—č—ā–≤–į—é—Č–ł—Ö ¬ę–ł–Ĺ—Ą–į–Ĺ—ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ—É—é —Ä–į–ī–ĺ—Ā—ā—ƬĽ –ĺ—ā —ć–Ľ—Ć—Ą–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ź–∑—č–ļ–į[41][42]. –í –Ĺ–į—á–į–Ľ–Ķ 1980-—Ö –≥–ĺ–ī–ĺ–≤ –≤—č—ą–Ľ–ł –ī–≤–Ķ —Ä–į–Ī–ĺ—ā—č –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–ĺ–Ľ–ĺ–≥–į –§—Ä–Ķ–ī–į –ė–Ĺ–≥–Ľ–ł—Ā–į[–į–Ĺ–≥–Ľ.], –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –ĺ–Ĺ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ľ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į ¬ę—Ą–į—ą–ł—Ā—ā–ĺ–ľ¬Ľ –ł ¬ę—Ā—ā–Ķ—Ä–Ķ–ĺ—ā–ł–Ņ–Ĺ—č–ľ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ –ľ–Ķ—ā—Ä–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ–ł–ł¬Ľ, –į ¬ę—ā–ł–Ņ–ł—á–Ĺ–ĺ–≥–嬼 —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź –Ķ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ ‚ÄĒ –≤—č—ą–Ķ–ī—ą–ł–ľ –Ĺ–į –Ņ–Ķ–Ĺ—Ā–ł—é —É—á–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł –≤ –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–ļ–ĺ–≤–ĺ–Ļ —Ā—Ä–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–Ļ —ą–ļ–ĺ–Ľ–Ķ, —á–ł—ā–į—é—Č–ł–ľ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ —Ā–≤–ĺ–ł–ľ –ľ–į–Ľ–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–ł–ľ —Ā—č–Ĺ–ĺ–≤—Ć—Ź–ľ ¬ę–≤ –ļ–≤–į—Ä—ā–ł—Ä–Ķ, –ĺ–Ī—ą–ł—ā–ĺ–Ļ —Ā–ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤—č–ľ–ł –Ņ–į–Ĺ–Ķ–Ľ—Ź–ľ–ł¬Ľ. –ü–ĺ–∑–ī–Ĺ–Ķ–Ķ –ė–Ĺ–≥–Ľ–ł—Ā –ł–∑–ī–į–Ľ –Ī–ł–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł—é –Ĺ–Ķ–ĺ–ľ–į—Ä–ļ—Ā–ł—Ā—ā–į –†–Ķ–Ļ–ľ–ĺ–Ĺ–ī–į –£–ł–Ľ—Ć—Ź–ľ—Ā–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ, –≤ —Ā–≤–ĺ—é –ĺ—á–Ķ—Ä–Ķ–ī—Ć, –Ĺ–į–∑–≤–į–Ľ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ ¬ę–ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ą—ć–Ĺ—ā–Ķ–∑–ł¬Ľ, ¬ę–Ņ—Ä–ĺ–≤–ł–Ĺ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ¬Ľ –ł ¬ę–Ņ–ĺ–Ľ—É–ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ¬Ľ[23]. –ö—ć—ā—Ä–ł–Ĺ –•—Ć—é–ľ[–į–Ĺ–≥–Ľ.] —Ü–ł—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ–į –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –ł–ī–Ķ–ł –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į, –Ĺ–ĺ –≤ —Ü–Ķ–Ľ–ĺ–ľ –Ĺ–Ķ —Ā–ļ—Ä—č–≤–į–Ľ–į —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ–≥–į—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ļ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ—É –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ. –ö –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä—É, –ĺ–Ĺ–į –Ņ–ł—Ā–į–Ľ–į, —á—ā–ĺ –®–ł—Ä ¬ę—ć–ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł –Ĺ–Ķ–∂–ł–∑–Ĺ–Ķ—Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ķ–ŬĽ, —á—ā–ĺ —É –Ī–ĺ–≥–į—ā—č—Ö —Ö–ĺ–Ī–Ī–ł—ā–ĺ–≤ –Ī—č–Ľ–ł –ī–Ķ–Ĺ—Ć–≥–ł, –Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ –Ī—č–Ľ–ĺ –ł—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ –ī–ĺ—Ö–ĺ–ī–į, —á—ā–ĺ –Ď—Ä–į—ā—Ā—ā–≤–ĺ –ö–ĺ–Ľ—Ć—Ü–į –Ņ–ĺ—á—ā–ł –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–į–ī–į–Ľ–ĺ" –ł —á—ā–ĺ ¬ę–≥–Ķ—Ä–ĺ–ł–∑–ľ, –∑–į –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –Ĺ–Ķ –∑–į–Ņ–Ľ–į—ā–ł–Ľ–ł, —ā–Ķ—Ä—Ź–Ķ—ā —Ā–≤–ĺ—Ď –∑–Ĺ–į—á–Ķ–Ĺ–ł–Ķ¬Ľ[43]. –≠—ā–ł –∑–į—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –•—Ć—é–ľ –Ņ–ĺ–∑–ī–Ĺ–Ķ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–ļ–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ –Ē—ć–Ĺ–ł–Ķ–Ľ –Ę–ł–ľ–ľ–ĺ–Ĺ—Ā, –Ĺ–į–Ļ–ī—Ź –≤ –Ĺ–ł—Ö —Ą–į–ļ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –Ĺ–Ķ—Ā–ĺ–ĺ—ā–≤–Ķ—ā—Ā—ā–≤–ł—Ź —ā–Ķ–ļ—Ā—ā—É –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į[44]. –ě ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–Ķ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ —ā–į–ļ–∂–Ķ –Ĺ–Ķ–≥–į—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ –≤—č—Ā–ļ–į–∑—č–≤–į–Ľ—Ā—Ź –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā–ĺ—Ä –ď–į—Ä–ĺ–Ľ—Ć–ī –Ď–Ľ—É–ľ, —Ö–ĺ—ā—Ź –ö–į—Ä—Ä–ł –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ —ā–ĺ—ā –ł—Ā–Ņ—č—ā—č–≤–į–Ľ –ļ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ—É –≤ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ–Ļ —Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ–ł –Ĺ–Ķ–ī–ĺ—É–ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, –Ĺ–Ķ–∂–Ķ–Ľ–ł –Ĺ–Ķ–Ĺ–į–≤–ł—Ā—ā—Ć[23]. XXI –≤–Ķ–ļ–í 2001 –≥–ĺ–ī—É –Ē–∂—É–ī–ł—ā –®—É–Ľ–Ķ–≤–ł—Ü –≤ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ –ī–Ľ—Ź The New York Times —Ä–į—Ā–ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ľ–į ¬ę–Ĺ–į–Ņ—č—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—ƬĽ, ¬ę–Ņ–ĺ–ľ–Ņ–Ķ–∑–Ĺ–ĺ—Ā—ā—ƬĽ –ł ¬ę–Ņ–Ķ–ī–į–Ĺ—ā–ł—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā—ƬĽ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā—ā–ł–Ľ—Ź –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į, –∑–į—Ź–≤–ł–≤, —á—ā–ĺ ¬ę–≤–ĺ–∑–≤—č—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ–į—Ź –≤–Ķ—Ä–į [–Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į] –ĺ –≤–į–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –Ķ–≥–ĺ –ľ–ł—Ā—Ā–ł–ł –ļ–į–ļ –∑–į—Č–ł—ā–Ĺ–ł–ļ–į –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—Ā–Ľ–Ķ–ī–ł—Ź, –ļ–į–ļ –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć, —Ā–ľ–Ķ—Ä—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–į –ī–Ľ—Ź —Ā–į–ľ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—ɗė謼[45]. –í —ā–ĺ–ľ –∂–Ķ –≥–ĺ–ī—É –Ē–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł –Ę–Ķ—Ä–Ĺ–Ķ—Ä –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ľ–į –≤ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ –ī–Ľ—Ź London Review of Books, —á—ā–ĺ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ľ ¬ę–∑–į–ļ—Ä—č—ā–ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ—Ā—ā–≤–嬼, ¬ę–∑–į—Ü–ł–ļ–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –Ĺ–į —Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ĺ–ĺ—Ā—ā–į–Ľ—Ć–≥–ł–ł¬Ľ –ł —á—ā–ĺ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –Ĺ—Ä–į–≤–ł—ā—Ā—Ź ¬ę—É—Ź–∑–≤–ł–ľ—č–ľ –Ľ—é–ī—Ź–ľ¬Ľ: ¬ę–í—č –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā–Ķ –Ņ–ĺ—á—É–≤—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į—ā—Ć —Ā–Ķ–Ī—Ź –≤ –Ī–Ķ–∑–ĺ–Ņ–į—Ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł [—á–ł—ā–į—Ź –ļ–Ĺ–ł–≥—É], –ł –Ĺ–Ķ–≤–į–∂–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ł—Ā—Ö–ĺ–ī–ł—ā –≤ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–ľ —Ä–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–ľ –ľ–ł—Ä–Ķ. –°–į–ľ—č–Ļ —Ā–Ľ–į–Ī—č–Ļ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā –Ņ–ĺ—á—É–≤—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į—ā—Ć —Ā–Ķ–Ī—Ź —Ö–ĺ–∑—Ź–ł–Ĺ–ĺ–ľ —ć—ā–ĺ–Ļ —É—é—ā–Ĺ–ĺ–Ļ –ľ–į–Ľ–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–ĺ–Ļ –≤—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ. –Ē–į–∂–Ķ –≥–Ľ—É–Ņ—č–Ļ, –Ņ–ĺ–ļ—Ä—č—ā—č–Ļ –ľ–Ķ—Ö–ĺ–ľ –ľ–į–Ľ–Ķ–Ĺ—Ć–ļ–ł–Ļ —Ö–ĺ–Ī–Ī–ł—ā –ľ–ĺ–∂–Ķ—ā —É–≤–ł–ī–Ķ—ā—Ć, –ļ–į–ļ –Ķ–≥–ĺ –ľ–Ķ—á—ā—č —Ā–Ī—č–≤–į—é—ā—Ā—Ź¬Ľ. –ě–Ĺ–į –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ–į, —á—ā–ĺ –≤ –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–≥–Ķ (¬ę–Ď—Ä–į—ā—Ā—ā–≤–ĺ –ö–ĺ–Ľ—Ć—Ü–į¬Ľ) –Ņ—Ä–ł–ļ–Ľ—é—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–ĺ–≤—ā–ĺ—Ä—Ź—é—ā—Ā—Ź, –ł–∑-–∑–į —á–Ķ–≥–ĺ —á—ā–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā —Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ ¬ę—Ä–į—Ā–ļ–į—á–ł–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –ľ–Ķ–∂–ī—É –ľ—Ä–į—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –ł –ļ–ĺ–ľ—Ą–ĺ—Ä—ā–ĺ–ľ¬Ľ: ¬ę—Ā—ā—Ä–į—ą–Ĺ–ĺ, —Ā–Ĺ–ĺ–≤–į –Ī–Ķ–∑–ĺ–Ņ–į—Ā–Ĺ–ĺ; –ĺ–Ņ—Ź—ā—Ć —Ā—ā—Ä–į—ą–Ĺ–ĺ, —Ā–Ĺ–ĺ–≤–į –Ī–Ķ–∑–ĺ–Ņ–į—Ā–Ŗ嬼. –ü–ĺ –Ķ—Ď –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é, —ć—ā–ĺ—ā ¬ę–Ĺ–į–≤—Ź–∑—á–ł–≤—č–Ļ —Ä–ł—ā–ľ¬Ľ –ĺ–Ņ–ł—Ā–į–Ľ –ó–ł–≥–ľ—É–Ĺ–ī –§—Ä–Ķ–Ļ–ī –≤ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–Ķ ¬ę–ü–ĺ —ā—É —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ—É –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ü–ł–Ņ–į —É–ī–ĺ–≤–ĺ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ł—Ź¬Ľ. –Ę–Ķ—Ä–Ĺ–Ķ—Ä –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ–į, —á—ā–ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ, —á–Ķ–Ļ –ĺ—ā–Ķ—Ü —É–ľ–Ķ—Ä, –ļ–ĺ–≥–ī–į –Ķ–ľ—É –Ī—č–Ľ–ĺ 3 –≥–ĺ–ī–į, –į –ľ–į—ā—Ć ‚ÄĒ –ļ–ĺ–≥–ī–į –Ķ–ľ—É –Ī—č–Ľ–ĺ 12, —Ā–≤–ĺ–ł–ľ–ł –ļ–Ĺ–ł–≥–į–ľ–ł, –≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ, –Ņ—č—ā–į–Ľ—Ā—Ź ¬ę–≤–Ķ—Ä–Ĺ—É—ā—Ć —Ä–ĺ–ī–ł—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ¬Ľ, –ī–Ķ—ā—Ā—ā–≤–ĺ –ł ¬ę—á—É–≤—Ā—ā–≤–ĺ –Ī–Ķ–∑–ĺ–Ņ–į—Ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł¬Ľ[46]. –í 2002 –≥–ĺ–ī—É –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ –†–ł—á–į—Ä–ī –Ē–∂–Ķ–Ĺ–ļ–ł–Ĺ—Ā –≤ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ –ī–Ľ—Ź The New Republic –Ņ–ĺ–ī–≤–Ķ—Ä–≥ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–Ķ ¬ę–ł–ī–ł–Ľ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ¬Ľ –ĺ–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–ł—Ź –®–ł—Ä–į, –Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ĺ–Ķ –ĺ—ā—Ā—É—ā—Ā—ā–≤–ł–Ķ —Ā–Ķ–ļ—Ā—É–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł —Ä–Ķ–Ľ–ł–≥–ł–ĺ–∑–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–Ķ (–ł–∑-–∑–į —á–Ķ–≥–ĺ –ľ–ł—Ä –°—Ä–Ķ–ī–ł–∑–Ķ–ľ—Ć—Ź, –Ņ–ĺ –Ķ–≥–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é, –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ—Ā—Ź ¬ę—ć–ľ–ĺ—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ī–Ķ–ī–Ĺ—č–ľ¬Ľ), –Ĺ–Ķ–ī–ĺ—Ā—ā–į—ā–ĺ–ļ –Ņ—Ā–ł—Ö–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –≥–Ľ—É–Ī–ł–Ĺ—č –ł —Ä–į–∑–≤–ł—ā–ł—Ź –≥–Ķ—Ä–ĺ–Ķ–≤, ¬ę–Ĺ–į–Ņ—č—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ¬Ľ —Ā—ā–ł–Ľ—Ć –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź[47]. –í —ā–ĺ–ľ –∂–Ķ –≥–ĺ–ī—É –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć-—Ą–į–Ĺ—ā–į—Ā—ā –Ē—ć–≤–ł–ī –Ď—Ä–ł–Ĺ –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ —Ä–Ķ–Ī—Ď–Ĺ–ļ–ĺ–ľ –ĺ–Ĺ –Ĺ–į—Ā–Ľ–į–∂–ī–į–Ľ—Ā—Ź ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–ĺ–ľ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –ļ–į–ļ —Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī–ĺ–ľ —É–Ļ—ā–ł –ĺ—ā —Ä–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ł –ī–ĺ —Ā–ł—Ö –Ņ–ĺ—Ä —Ā—á–ł—ā–į–Ķ—ā –Ķ–≥–ĺ –ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ –ł–∑ –Ľ—É—á—ą–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –≤ –∂–į–Ĺ—Ä–Ķ ¬ę—Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–ł—Ź –ľ–ł—Ä–į¬Ľ. –ü—Ä–ł —ć—ā–ĺ–ľ –ĺ–Ĺ –Ĺ–Ķ–≥–į—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ł–Ľ –Ņ—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—É—é –≤ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–Ķ –Ĺ–ĺ—Ā—ā–į–Ľ—Ć–≥–ł—é –Ņ–ĺ —ā—Ä–į–ī–ł—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ł–Ķ—Ä–į—Ä—Ö–ł–ł –ĺ–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤–į –ł –Ĺ–Ķ–ī–ĺ–≤–Ķ—Ä–ł–Ķ –ļ –Ņ—Ä–ĺ–≥—Ä–Ķ—Ā—Ā—É[48]. –§—ć–Ĺ—ā–Ķ–∑–ł-–Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –§–ł–Ľ–ł–Ņ –ü—É–Ľ–ľ–į–Ĺ –∑–į—Ź–≤–ł–Ľ, —á—ā–ĺ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –Ī–į–Ĺ–į–Ľ–Ķ–Ĺ: ¬ę–Ě–į—Ä–Ĺ–ł—Ź –≤ —Ü–Ķ–Ľ–ĺ–ľ —Ā–Ķ—Ä—Ć—Ď–∑–Ĺ–į, —Ö–ĺ—ā—Ź –ľ–Ĺ–Ķ –Ĺ–Ķ –Ĺ—Ä–į–≤–ł—ā—Ā—Ź –Ņ–ĺ—Ā—č–Ľ –õ—Ć—é–ł—Ā–į. –ē—Ā–Ľ–ł –Ī—č —Ź —Ā –ļ–Ķ–ľ-—ā–ĺ —Ā–Ņ–ĺ—Ä–ł–Ľ, —ā–ĺ —Ā –Ě–į—Ä–Ĺ–ł–Ķ–Ļ. –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ –Ĺ–Ķ —Ā—ā–ĺ–ł—ā —ā–ĺ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ–Ī—č —Ā –Ĺ–ł–ľ —Ā–Ņ–ĺ—Ä–ł—ā—ƬĽ. –ě–Ī–ĺ–∑—Ä–Ķ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć The Atlantic –†–ĺ—Ā—Ā –Ē–į—É—ā–į—ā –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ —ā–į–ļ–į—Ź –≥—Ä—É–Ī–į—Ź –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ļ–į –≤–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ–ľ —Ā–≤—Ź–∑–į–Ĺ–į —Ā –į—ā–Ķ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ–ł –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī–į–ľ–ł –ü—É–Ľ–ľ–į–Ĺ–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ—É –Ĺ–Ķ –Ĺ—Ä–į–≤–ł—ā—Ā—Ź —Ä–Ķ–Ľ–ł–≥–ł–ĺ–∑–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ĺ–ī—ā–Ķ–ļ—Ā—ā –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –ł –õ—Ć—é–ł—Ā–į. –ü—Ä–ł —ć—ā–ĺ–ľ —Ā–į–ľ –ü—É–Ľ–ľ–į–Ĺ –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ľ ¬ę–Ī–į–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ¬Ľ –Ņ–ĺ–ī—Ö–ĺ–ī –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ—É–Ķ–ľ—č—Ö –ł–ľ –Ņ—Ä–Ķ–ī—ą–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ –Ņ—Ä–ł —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–ł–ł –≤—č–ľ—č—ą–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ľ–ł—Ä–į –≤ ¬ę–ó–ĺ–Ľ–ĺ—ā–ĺ–ľ –ļ–ĺ–ľ–Ņ–į—Ā–Ķ¬Ľ, —Ö–ĺ—ā—Ź –Ņ–ĺ –ľ–Ķ—Ä–Ķ –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–ł—Ź —Ü–ł–ļ–Ľ–į ¬ę–Ę—Ď–ľ–Ĺ—č–Ķ –Ĺ–į—á–į–Ľ–į¬Ľ –≤—Ā—Ď –ī–į–Ľ—Ć—ą–Ķ –ĺ—ā—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ –ĺ—ā –Ĺ–Ķ–≥–ĺ –≤ –Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É ¬ę—ā—Ä–Ķ—Ā–ļ—É—á–Ķ–Ļ –Ņ–ĺ–Ľ–Ķ–ľ–ł–ļ–ł¬Ľ –Ĺ—Ä–į–≤–ĺ—É—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–į—Ą–ĺ—Ā–į, –ī–ĺ—Ö–ĺ–ī—Ź—Č–Ķ–Ļ –ī–ĺ —É—Ä–ĺ–≤–Ĺ—Ź ¬ę–ī–ł–ī–į–ļ—ā–ł–∑–ľ–į –ź–Ļ–Ĺ –†—ć–Ĺ–ī¬Ľ[49]. –ė—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –Ē–∂–į—Ä–Ķ–ī –õ–ĺ–Ī–ī–Ķ–Ľ–Ľ[–į–Ĺ–≥–Ľ.] –∑–į–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –ĺ–ī–ł–Ĺ –ł–∑ —Ā–į–ľ—č—Ö –ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č—Ö –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –≠–ī–ľ—É–Ĺ–ī –£–ł–Ľ—Ā–ĺ–Ĺ –Ī—č–Ľ ¬ę–ł–∑–≤–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č–ľ –≤—Ä–į–≥–ĺ–ľ —Ä–Ķ–Ľ–ł–≥–ł–ł¬Ľ, –Ņ–ĺ–Ņ—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ—č—Ö –ļ–Ĺ–ł–≥ –ł ¬ę–ļ–ĺ–Ĺ—Ā–Ķ—Ä–≤–į—ā–ł–∑–ľ–į –≤ –Ľ—é–Ī–ĺ–Ļ –Ķ–≥–ĺ —Ą–ĺ—Ä–ľ–Ķ¬Ľ. –ü–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é –õ–ĺ–Ī–ī–Ķ–Ľ–Ľ–į, ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ļ–ł –ĺ—ā ¬ę–ľ–Ķ–Ļ–Ĺ—Ā—ā—Ä–ł–ľ–Ĺ—č—Ö –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤¬Ľ ‚ÄĒ –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–ĺ –ł–∑ –Ĺ–ł—Ö –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ–ł –Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ –Ņ–ĺ–Ņ—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į[50]. –õ–ĺ–Ī–ī–Ķ–Ľ–Ľ –Ņ–ĺ–ī—á–Ķ—Ä–ļ–Ĺ—É–Ľ, —á—ā–ĺ –Ķ—Ā—ā—Ć –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł –ľ–Ķ–Ļ–Ĺ—Ā—ā—Ä–ł–ľ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—č (—ā–ł–Ņ–į –£–ł–Ľ—Ā–ĺ–Ĺ–į), –į –Ķ—Ā—ā—Ć –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—č –≤ –∂–į–Ĺ—Ä–Ķ —Ą–į–Ĺ—ā–į—Ā—ā–ł–ļ–ł –ł —Ą—ć–Ĺ—ā–Ķ–∑–ł, –ļ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–ľ –ĺ–Ĺ –ĺ—ā–Ĺ—Ď—Ā, –ļ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä—É, –Ď—Ä–į–Ļ–į–Ĺ–į –ě–Ľ–ī–ł—Ā—Ā–į, —Ā—Ä–į–≤–Ĺ–ł–≤–į–≤—ą–Ķ–≥–ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į —Ā –ü–Ķ–Ľ–į–ľ–ĺ–ľ –í—É–ī—Ö–į—É—Ā–ĺ–ľ, –ł –Ķ—Ā—ā—Ć —ā–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–ī—č, –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į—é—Č–ł–Ķ—Ā—Ź –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź–ľ–ł –≤–Ľ–ł—Ź–Ĺ–ł–Ļ –Ĺ–į —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į, –∑–į—ā—Ä–ĺ–Ĺ—É—ā—č—Ö –≤ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź—Ö –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į —ā–Ķ–ľ, –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č—Ö –Ņ—Ä–ł—Ď–ľ–ĺ–≤, –≤—č–ľ—č—ą–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö —Ź–∑—č–ļ–ĺ–≤[32]. –†–Ķ–į–Ī–ł–Ľ–ł—ā–į—Ü–ł—Ź–Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–ĺ–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –ö–Ĺ–ł–≥–į —Ą–ł–Ľ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–į –ü–ĺ–Ľ–į –ö–ĺ—á–Ķ—Ä–į[–į–Ĺ–≥–Ľ.] ¬ę–•–ĺ–∑—Ź–ł–Ĺ –°—Ä–Ķ–ī–ł–∑–Ķ–ľ—Ć—Ź¬Ľ (–į–Ĺ–≥–Ľ. Master of Middle Earth) (1972) —Ā—ā–į–Ľ–į –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ł–∑ –Ņ–Ķ—Ä–≤—č—Ö –į–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö —Ä–į–Ī–ĺ—ā –ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–Ķ –ł –Ķ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź—Ö[52][53]. –ö–ĺ—á–Ķ—Ä –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ĺ –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ł–Ľ –ļ–į–ļ —Ā—ā–ł–Ľ—Ć ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ, —ā–į–ļ –ł –Ķ–≥–ĺ —Ā–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–į–Ĺ–ł–Ķ, —Ä–į–∑–ĺ–Ī—Ä–į–≤ —Ä–į–∑–Ĺ—č–Ķ —ā–Ķ–ľ—č —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į, –≤ —ā–ĺ–ľ —á–ł—Ā–Ľ–Ķ —ā–Ķ–ľ—É –Ľ—é–Ī–≤–ł –ł —Ā–Ķ–Ī—Ź–Ľ—é–Ī–ł—Ź –ł –Ņ–į–≥—É–Ī–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≤–Ľ–ł—Ź–Ĺ–ł—Ź –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–į –ĺ—ā—Ä–ł—Ü–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –Ņ–Ķ—Ä—Ā–ĺ–Ĺ–į–∂–Ķ–Ļ[54]. –•–ĺ—ā—Ź —ć—ā–į –ļ–Ĺ–ł–≥–į –≤—č—ą–Ľ–į –Ķ—Č—Ď –ī–ĺ –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–ł ¬ę–°–ł–Ľ—Ć–ľ–į—Ä–ł–Ľ–Ľ–ł–ĺ–Ĺ–į¬Ľ, –≤—č–≤–ĺ–ī—č –ö–ĺ—á–Ķ—Ä–į –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ—Ä–Ķ—á–į—ā –ł–ī–Ķ—Ź–ľ, –ĺ–Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ –Ņ–ĺ–∑–ī–Ĺ–Ķ–Ķ –≤ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į—Ö –Ņ–ĺ–ī —Ä–Ķ–ī–į–ļ—Ü–ł–Ķ–Ļ –ö—Ä–ł—Ā—ā–ĺ—Ą–Ķ—Ä–į –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į[55][54]. –í 1973 –≥–ĺ–ī—É –ü–į—ā—Ä–ł–ļ –ď—Ä–į–Ĺ—ā, –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—č —ć–Ņ–ĺ—Ö–ł –í–ĺ–∑—Ä–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź, —Ä–į—Ā—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä–Ķ–Ľ –Ņ–Ķ—Ä—Ā–ĺ–Ĺ–į–∂–Ķ–Ļ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ —Ā —ā–ĺ—á–ļ–ł –∑—Ä–Ķ–Ĺ–ł—Ź –į—Ä—Ö–Ķ—ā–ł–Ņ–ĺ–≤, –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ö–į—Ä–Ľ–ĺ–ľ –ď—É—Ā—ā–į–≤–ĺ–ľ –ģ–Ĺ–≥–ĺ–ľ. –í –Ķ–≥–ĺ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ņ—Ä–Ķ—ā–į—Ü–ł–ł –≥–Ķ—Ä–ĺ–Ļ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –Ņ—Ä–ĺ—Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –ļ–į–ļ –≤ –Ī–Ľ–į–≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –ł –ľ–ĺ–≥—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ —Ą–ĺ—Ä–ľ–Ķ –ź—Ä–į–≥–ĺ—Ä–Ĺ–į, —ā–į–ļ –ł –≤ –ł–∑–Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ī–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ-–Ĺ–į–ł–≤–Ĺ–ĺ–Ļ —Ą–ĺ—Ä–ľ–Ķ –§—Ä–ĺ–ī–ĺ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –≤ —Ö–ĺ–ī–Ķ —Ā–≤–ĺ–Ķ–≥–ĺ –Ņ—É—ā–Ķ—ą–Ķ—Ā—ā–≤–ł—Ź –Ņ—Ä–ĺ—Ö–ĺ–ī–ł—ā –Ņ—Ä–ĺ—Ü–Ķ—Ā—Ā –ł–Ĺ–ī–ł–≤–ł–ī—É–į—Ü–ł–ł. –ė–ľ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź—ā –Ĺ–į–∑–≥—É–Ľ—č. –ź–Ĺ–ł–ľ–į –§—Ä–ĺ–ī–ĺ ‚ÄĒ —ć–Ľ—Ć—Ą–ł–Ļ—Ā–ļ–į—Ź –ļ–ĺ—Ä–ĺ–Ľ–Ķ–≤–į –ď–į–Ľ–į–ī—Ä–ł—ć–Ľ—Ć, –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ —Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –∑–Ľ–į—Ź –Ņ–į—É—á–ł—Ö–į –®–Ķ–Ľ–ĺ–Ī. –ź—Ä—Ö–Ķ—ā–ł–Ņ –ľ—É–ī—Ä–ĺ–≥–ĺ —Ā—ā–į—Ä—Ü–į –ĺ—á–Ķ–≤–ł–ī–Ĺ–ĺ –≤–ĺ–Ņ–Ľ–ĺ—Č–į–Ķ—ā –ď—ć–Ĺ–ī–į–Ľ—Ć—Ą, –Ķ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é —Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –°–į—Ä—É–ľ–į–Ĺ. –Ę–Ķ–Ĺ—Ć –§—Ä–ĺ–ī–ĺ ‚ÄĒ –ď–ĺ–Ľ–Ľ—É–ľ. –ė–ī–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –Ņ–į—Ä—ā–Ĺ—Ď—Ä –ź—Ä–į–≥–ĺ—Ä–Ĺ–į ‚ÄĒ –ź—Ä–≤–Ķ–Ĺ, –ĺ—ā—Ä–ł—Ü–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –į–Ĺ–ł–ľ—É—Ā ‚ÄĒ –≠–ĺ–≤–ł–Ĺ (–ī–ĺ —ā–ĺ–≥–ĺ –ľ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į, –Ņ–ĺ–ļ–į –ĺ–Ĺ–į –Ĺ–Ķ –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—ā–ł–Ľ–į –§–į—Ä–į–ľ–ł—Ä–į)[51]. –í 1970 –≥–ĺ–ī—É –†–ł—á–į—Ä–ī –ö. –£—ć—Ā—ā[–į–Ĺ–≥–Ľ.] –≤—č–Ņ—É—Ā—ā–ł–Ľ –Ī–ł–Ī–Ľ–ł–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ —Ā–Ī–ĺ—Ä–Ĺ–ł–ļ Tolkien Criticism: An Annotated Checklist —Ā–ĺ —Ā–Ņ–ł—Ā–ļ–ĺ–ľ –ļ–Ĺ–ł–≥ –ł —Ā—ā–į—ā–Ķ–Ļ –ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–Ķ —Ā –ļ–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–ł—Ź–ľ–ł. –í—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ –ł–∑–ī–į–Ĺ–ł–Ķ —ć—ā–ĺ–Ļ —Ä–į–Ī–ĺ—ā—č –≤—č—ą–Ľ–ĺ –≤ 1981 –≥–ĺ–ī—É[56][32]. –í –Ĺ–į—á–į–Ľ–Ķ 1980-—Ö –≥–ĺ–ī–ĺ–≤ –Ņ–ĺ—Ź–≤–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –≤—č—ą–Ľ–ł –ī–≤–Ķ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł —Ą–ł–Ľ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ĺ–≤, —Ā–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–į—Č–ł–Ķ –ľ–į—Ā—ą—ā–į–Ī–Ĺ—č–Ķ –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į: ¬ę–Ē–ĺ—Ä–ĺ–≥–į –≤ –°—Ä–Ķ–ī–ł–∑–Ķ–ľ—Ć–Ķ¬Ľ (–į–Ĺ–≥–Ľ. The Road to Middle-Earth) –Ę–ĺ–ľ–į –®–ł–Ņ–Ņ–ł (1982) –ł ¬ę–†–į—Ā—Č–Ķ–Ņ–Ľ—Ď–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —Ā–≤–Ķ—ā¬Ľ (–į–Ĺ–≥–Ľ. Splintered Light) –í–Ķ—Ä–Ľ–ł–Ĺ –§–Ľ–ł–≥–Ķ—Ä[–į–Ĺ–≥–Ľ.] (1983)[53]. –§–Ľ–ł–≥–Ķ—Ä –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ–į –≤ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–Ķ, —á—ā–ĺ –≤ –į–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–ľ —Ā–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ –ī–ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į ¬ę–≤–ĺ–Ľ—ą–Ķ–Ī–Ĺ—č–Ķ —Ā–ļ–į–∑–ļ–ł¬Ľ –Ĺ–Ķ —Ä–į—Ā—Ā–ľ–į—ā—Ä–ł–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –≤—Ā–Ķ—Ä—Ć—Ď–∑, —ā–į–ļ –ļ–į–ļ –ĺ–Ĺ–ł —Ā—á–ł—ā–į–Ľ–ł—Ā—Ć ¬ę–Ĺ–Ķ–ī–ĺ—Ā—ā–ĺ–Ļ–Ĺ—č–ľ–ł –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł—Ź¬Ľ[57]. –ü–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–į—á–į–Ľ–ĺ –Ņ–ĺ—Ź–≤–Ľ—Ź—ā—Ć—Ā—Ź –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ķ –ļ–ĺ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –į–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ļ –∂–į–Ĺ—Ä–į —ć–Ņ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ą—ć–Ĺ—ā–Ķ–∑–ł –ł –≤—č–ľ—č—ą–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö —Ź–∑—č–ļ–ĺ–≤[53]. –í 1998 –≥–ĺ–ī—É –Ē—ć–Ĺ–ł–Ķ–Ľ –Ę–ł–ľ–ľ–ĺ–Ĺ—Ā –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ –≤ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ –ī–Ľ—Ź Journal of the Fantastic in the Arts, —á—ā–ĺ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–ĺ–≤–Ķ–ī—č –Ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł—ą–Ľ–ł –ļ –Ķ–ī–ł–Ĺ–ĺ–ľ—É –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—Ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ľ–Ķ—Ā—ā–į –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –≤ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ķ, –ĺ–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ –Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ–ī–ĺ–Ī—Ä–ĺ–∂–Ķ–Ľ–į—ā–Ķ–Ľ–ł –≤ –ľ–Ķ–Ĺ—Ć—ą–ł–Ĺ—Ā—ā–≤–Ķ. –ě–Ĺ —Ā–ĺ—Ā–Ľ–į–Ľ—Ā—Ź –Ĺ–į –Ę–ĺ–ľ–į –®–ł–Ņ–Ņ–ł, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –Ņ–ł—Ā–į–Ľ –ĺ —ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ ¬ę–Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č–Ļ –ł—Ā—ā–Ķ–Ī–Ľ–ł—ą–ľ–Ķ–Ĺ—ā¬Ľ –Ĺ–Ķ –≤–ļ–Ľ—é—á–į–Ľ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –≤ –ļ–į–Ĺ–ĺ–Ĺ –į–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö —ā–Ķ–ļ—Ā—ā–ĺ–≤, –ł –Ĺ–į –Ē–∂–Ķ–Ļ–Ĺ –ß–į–Ĺ—Ā[–į–Ĺ–≥–Ľ.], –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź ¬ę—Ā–ľ–Ķ–Ľ–ĺ –∑–į—Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā, —á—ā–ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ, –Ĺ–į–ļ–ĺ–Ĺ–Ķ—Ü-—ā–ĺ, –ł–∑—É—á–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ļ–į–ļ –≤–į–∂–Ĺ—č–Ļ –į–≤—ā–ĺ—Ä, –ļ–į–ļ –ĺ–ī–ł–Ĺ –ł–∑ –≤–Ķ–Ľ–ł—á–į–Ļ—ą–ł—Ö –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ –ľ–ł—Ä–į¬Ľ[53]. –í —ā–ĺ–ľ –∂–Ķ –≥–ĺ–ī—É –Ę–ł–ľ–ľ–ĺ–Ĺ—Ā –∑–į—Č–ł—ā–ł–Ľ –ī–ĺ–ļ—ā–ĺ—Ä—Ā–ļ—É—é –ī–ł—Ā—Ā–Ķ—Ä—ā–į—Ü–ł—é –Ĺ–į —ā–Ķ–ľ—É –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ —Ä–į–∑–ĺ–Ī—Ä–į–Ľ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ –ĺ–Ī–≤–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤, –≤ —ā–ĺ–ľ —á–ł—Ā–Ľ–Ķ —É–ļ–į–∑–į–≤ –Ĺ–į –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ķ –ļ–ĺ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ —Ą–į–ļ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –ĺ—ą–ł–Ī–ĺ–ļ –Ņ—Ä–ł –į–Ĺ–į–Ľ–ł–∑–Ķ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į ¬ę–Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ–ł¬Ľ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–ĺ–≤–Ķ–ī–į–ľ–ł[4].  –ü–ĺ–ľ–ł–ľ–ĺ —Ā–ĺ–Ī—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –į–Ĺ–į–Ľ–ł–∑–į –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į, –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ–ł –Ĺ–į—á–į–Ľ–ł –ĺ—ā–≤–Ķ—á–į—ā—Ć –Ĺ–į –ĺ–Ī–≤–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č—Ö –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤ –≤ –Ķ–≥–ĺ –į–ī—Ä–Ķ—Ā. –≠—ā–ĺ –Ĺ–į—á–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć —Ā –ļ–Ĺ–ł–≥–ł ¬ę–Ē–ĺ—Ä–ĺ–≥–į –≤ –°—Ä–Ķ–ī–ł–∑–Ķ–ľ—Ć–Ķ¬Ľ (1982), –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –®–ł–Ņ–Ņ–ł –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł–Ľ –Ĺ–į –≤—č–Ņ–į–ī –ú—é–ł—Ä–į –ĺ–Ī ¬ę–ł–Ĺ—Ą–į–Ĺ—ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł¬Ľ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ, –≥–Ķ—Ä–ĺ–ł –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ, –Ņ–ĺ –ú—é–ł—Ä—É, –≤—č—Ö–ĺ–ī—Ź—ā –ł–∑ —Ā–ľ–Ķ—Ä—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –Ī–ł—ā–≤—č ¬ę–Ĺ–Ķ–≤—Ä–Ķ–ī–ł–ľ—č–ľ–ł¬Ľ. –®–ł–Ņ–Ņ–ł –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ —Ö–ĺ—ā—Ź –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ ¬ę–Ņ–ĺ –ī–ĺ–Ī—Ä–ĺ—Ā–Ķ—Ä–ī–Ķ—á–ł—é –ī–į–Ľ —ć–≤–į–ļ—É–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć—Ā—Ź –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—é –ú–ł–Ĺ–į—Ā –Ę–ł—Ä–ł—ā–į –ł –Ņ–ĺ—Č–į–ī–ł–Ľ –Ņ–ĺ–Ĺ–ł –Ď–ł–Ľ–Ľ–į¬Ľ, –ĺ –§—Ä–ĺ–ī–ĺ –Ĺ–ł–ļ–į–ļ –Ĺ–Ķ–Ľ—Ć–∑—Ź —Ā–ļ–į–∑–į—ā—Ć, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ –ĺ—Ā—ā–į–Ľ—Ā—Ź ¬ę–Ĺ–Ķ–≤—Ä–Ķ–ī–ł–ľ—č–ľ¬Ľ –ł–Ľ–ł —Ö–ĺ—ā—Ź –Ī—č –Ī—č–Ľ ¬ę—Ā—á–į—Ā—ā–Ľ–ł–≤¬Ľ, —ā–į–ļ–∂–Ķ ¬ę–Ĺ–Ķ–≤—Ä–Ķ–ī–ł–ľ—č–ľ–ł¬Ľ –Ĺ–ł–ļ–į–ļ –Ĺ–Ķ–Ľ—Ć–∑—Ź –Ĺ–į–∑–≤–į—ā—Ć —ā–į–ļ–ł—Ö –Ņ–Ķ—Ä—Ā–ĺ–Ĺ–į–∂–Ķ–Ļ, –ļ–į–ļ –Ď–ĺ—Ä–ĺ–ľ–ł—Ä, –Ę–Ķ–ĺ–ī–Ķ–Ĺ –ł –Ē–Ķ–Ĺ–Ķ—ā–ĺ—Ä. –®–ł–Ņ–Ņ–ł –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł–Ľ –ł –Ĺ–į –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –į—ā–į–ļ–ł –ö–ĺ–Ľ–ł–Ĺ–į –ú—ć–Ĺ–Ľ–į–≤–į. –Ě–į–Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä, –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł–Ļ —Ä–į—Ā–ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ľ —Ā—ā–ł–Ľ—Ć –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į (¬ę–Ņ–Ķ—Ä–Ķ–≥—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ļ–į–ī–Ķ–Ĺ—Ü–ł–ł, —É–Ī–į—é–ļ–ł–≤–į—é—Č–ł–Ļ, –ľ–ĺ–Ĺ–ĺ—ā–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ —Ä–ł—ā–ľ‚Ķ¬Ľ) –ł –∑–į—Ź–≤–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –ĺ—ā—Ä—č–≤–ĺ–ļ –ī—Ä–Ķ–≤–Ĺ–Ķ–į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ—ć–ľ—č ¬ę–°–ļ–ł—ā–į–Ľ–Ķ—ܬĽ, –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į—é—Č–ł–Ļ—Ā—Ź —Ā–Ľ–ĺ–≤–į–ľ–ł Ubi sunt, —Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź ¬ę–Ĺ–į—Ā—ā–ĺ—Ź—Č–Ķ–Ļ —ć–Ľ–Ķ–≥–ł–Ķ–Ļ¬Ľ, –≤ –ĺ—ā–Ľ–ł—á–ł–Ķ –ĺ—ā —ā–Ķ–ļ—Ā—ā–ĺ–≤ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į. –®–ł–Ņ–Ņ–ł –Ĺ–į–∑–≤–į–Ľ —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–Ļ, –į –Ĺ–Ķ–į—Ä–≥—É–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ –ł ¬ę–Ī–Ķ—Ā–Ņ–į—Ä–ī–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–ľ —Ö–į–ľ—Ā—ā–≤–ĺ–ľ¬Ľ –ł –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ —Ā–ľ–Ķ–Ľ–ĺ –Ņ—č—ā–į–Ľ—Ā—Ź –ł–ľ–ł—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć —Ā—ā–ł–Ľ—Ć —Ā—Ä–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–≤–Ķ–ļ–ĺ–≤—č—Ö —ć–Ľ–Ķ–≥–ł–Ļ. –Ę–į–ļ–∂–Ķ –®–ł–Ņ–Ņ–ł –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł –Ņ—Ä–ĺ–ļ–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ –Ī–Ķ–∑–į–Ņ–Ķ–Ľ–Ľ—Ź—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —É—ā–≤–Ķ—Ä–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ú—ć–Ĺ–Ľ–į–≤–į –ĺ —ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ ¬ę–Ĺ–Ķ —Ā–Ņ–ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ķ–Ĺ —É–≤–Ľ–Ķ—á—Ć –Ĺ–į—Ā¬Ľ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–Ĺ—č–ľ –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ĺ–ľ ‚ÄĒ –ļ–ĺ–≥–ĺ —ć—ā–ĺ ¬ę–Ĺ–į—Ā¬Ľ? –ö—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł –≤—Ä–ĺ–ī–Ķ –ú—ć–Ĺ–Ľ–į–≤–į, –Ņ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é –®–ł–Ņ–Ņ–ł, –ļ–ł—á–į—Ā—Ć —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ —ć—Ä—É–ī–ł—Ü–ł–Ķ–Ļ, —Ā—ā—Ä–ĺ—Ź—ā —Ā–≤–ĺ—é –į—Ä–≥—É–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ü–ł—é –Ĺ–į –≥–ĺ–Ľ–ĺ–ľ –ĺ—ā—Ä–ł—Ü–į–Ĺ–ł–ł[60]. –®–ł–Ņ–Ņ–ł –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł–Ľ –Ĺ–į –ĺ–Ī–≤–ł–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ö—Ä–ł—Ā—ā–ł–Ĺ –Ď—Ä—É–ļ-–†–ĺ—É–∑, –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–≤ –ļ–į–ļ –Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –ĺ—ą–ł–Ī–ļ–ł –≤ –Ķ—Ď –ł–Ĺ–≤–Ķ–ļ—ā–ł–≤–į—Ö, —ā–į–ļ –ł —Ä–į—Ā–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā—Ä–į–Ĺ—Ď–Ĺ–Ĺ—É—é —Ā—Ä–Ķ–ī–ł –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤ –ł–ī–Ķ—é –ĺ —ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ –Ķ—Ā–Ľ–ł –≤ –ļ–Ĺ–ł–≥–Ķ –ł–ī—Ď—ā —Ä–Ķ—á—Ć –ĺ —Ä–į–ī–ĺ—Ā—ā–ł, —ā–ĺ —ć—ā–į —Ä–į–ī–ĺ—Ā—ā—Ć –ĺ–Ī—Ź–∑–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ ¬ę–ł–Ĺ—Ą–į–Ĺ—ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ–į¬Ľ[60]. –Ę–į–ļ–∂–Ķ –®–ł–Ņ–Ņ–ł –Ņ—Ä–ĺ–ļ–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ –∑–į–ľ–Ķ—á–į–Ĺ–ł–Ķ –ú–į—Ä–ļ–į –†–ĺ–Ī–Ķ—Ä—ā—Ā–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –Ņ–ł—Ā–į–Ľ, —á—ā–ĺ –∑–į —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–ĺ–ľ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į ¬ę–Ĺ–Ķ —Ā—ā–ĺ–ł—ā –Ķ–ī–ł–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ä—É–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī—Ź—Č–Ķ–≥–ĺ –į–≤—ā–ĺ—Ä—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ–ł—Ä–ĺ–≤–ĺ–∑–∑—Ä–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ķ —Ź–≤–Ľ—Ź–Ľ–ĺ—Ā—Ć –Ī—č –≤ —ā–ĺ –∂–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź‚Ķ raison d'√™tre¬Ľ[61]. –ü–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é –®–ł–Ņ–Ņ–ł, —ć—ā–ĺ —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā–ĺ–ĺ—ā–≤–Ķ—ā—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā –ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, —ā–į–ļ –ļ–į–ļ –∑–į "–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–ĺ–ľ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—Ü —Ā—ā–ĺ–ł—ā ¬ę—Ä—É–ļ–ĺ–≤–ĺ–ī—Ź—Č–Ķ–Ķ –ľ–ł—Ä–ĺ–≤–ĺ–∑–∑—Ä–Ķ–Ĺ–ł–Ķ¬Ľ (—Ā–ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ ¬ę–≤ –ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ķ –ö–ĺ–Ľ—Ć—Ü–į, –≤ —Ā—Ü–Ķ–Ĺ–į—Ö –ļ–ĺ–Ĺ—Ą–Ľ–ł–ļ—ā–ĺ–≤ –ł –ł—Ā–ļ—É—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ļ, –≤ —Ä–Ķ–Ņ–Ľ–ł–ļ–į—Ö –Ņ–Ķ—Ä—Ā–ĺ–Ĺ–į–∂–Ķ–Ļ –ł –≤ –ł—Ö –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī–į—Ö –Ĺ–į –∂–ł–∑–Ĺ—Ć, –≤ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–ĺ–≤–ł—Ü–į—Ö, –Ņ—Ä–ĺ—Ä–ĺ—á–Ķ—Ā—ā–≤–į—Ö –ł –≤ —Ā–į–ľ–ĺ–Ļ –ľ–į–Ĺ–Ķ—Ä–Ķ –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź¬Ľ). –®–ł–Ņ–Ņ–ł –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ, —á—ā–ĺ ¬ę—Ā–Ľ–Ķ–Ņ–ĺ—ā—É –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –ĺ–Ī—ä—Ź—Ā–Ĺ–ł—ā—Ć —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –ł—Ö –≥–Ľ—É–Ī–ĺ—á–į–Ļ—ą–Ķ–Ļ –į–Ĺ—ā–ł–Ņ–į—ā–ł–Ķ–Ļ –Ņ–ĺ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł—é –ļ –≤–ĺ–Ľ—ą–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā–ļ–į–∑–ļ–Ķ –ļ–į–ļ —ā–į–ļ–ĺ–≤–ĺ–Ļ, –ĺ–Ī—Č–ł–ľ –Ņ—Ä–Ķ–ī—É–Ī–Ķ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ –Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤ —É—Ā–Ľ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ—Ā—ā–Ķ–Ļ —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –∂–į–Ĺ—Ä–į¬Ľ[62]. –ē—Č—Ď –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ–ĺ–Ļ –®–ł–Ņ–Ņ–ł –Ĺ–į–∑–≤–į–Ľ –ĺ–≥—Ä–ĺ–ľ–Ĺ—č–Ļ –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–Ĺ—č–Ļ —Ä–į–∑—Ä—č–≤ –ľ–Ķ–∂–ī—É –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–ĺ–ľ –ł –Ķ–≥–ĺ ¬ę–ľ–Ķ–Ļ–Ĺ—Ā—ā—Ä–ł–ľ–Ĺ—č–ľ–ł¬Ľ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–į–ľ–ł, –Ĺ–Ķ —Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ—Ź–≤—ą–ł–ľ–ł —ā—Ä–Ķ–Ņ–Ķ—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź –ļ —Ź–∑—č–ļ–į–ľ –ł —Ā–Ľ–ĺ–≤–į–ľ, –≤–ļ–Ľ—é—á–į—Ź –ł—Ö —ć—ā–ł–ľ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—é –ł –∑–≤—É—á–į–Ĺ–ł–Ķ[63]. –í –ļ–Ĺ–ł–≥–Ķ ¬ę–Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ: –ź–≤—ā–ĺ—Ä –≤–Ķ–ļ–į¬Ľ (2000) –®–ł–Ņ–Ņ–ł –∑–į—Ź–≤–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –ĺ–≥—Ä–ĺ–ľ–Ĺ–į—Ź –Ņ–ĺ–Ņ—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –ī–į–∂–Ķ —Ā–Ņ—É—Ā—ā—Ź 50 –Ľ–Ķ—ā –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ķ–≥–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ļ –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–ł —É–∂–Ķ —Ā–į–ľ–į –Ņ–ĺ —Ā–Ķ–Ī–Ķ —É–ļ–į–∑—č–≤–į–Ķ—ā –Ĺ–į –Ķ–≥–ĺ –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ. –í–ĺ-–≤—ā–ĺ—Ä—č—Ö, –ĺ–Ĺ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ľ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ—Ā—ā–į–≤–ł—ā—Ć –≤ –ĺ–ī–ł–Ĺ —Ä—Ź–ī —Ā –ě—Ä—É—ć–Ľ–Ľ–ĺ–ľ, –ď–ĺ–Ľ–ī–ł–Ĺ–≥–ĺ–ľ –ł –í–ĺ–Ĺ–Ĺ–Ķ–≥—É—ā–ĺ–ľ, —ā–į–ļ –ļ–į–ļ –ł—Ö –≤—Ā–Ķ—Ö –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–ĺ–≤–į–Ľ–į –į–ļ—ā—É–į–Ľ—Ć–Ĺ–į—Ź –ī–Ľ—Ź XX –≤–Ķ–ļ–į —ā–Ķ–ľ–į –≤–Ľ–į—Ā—ā–ł –ł –Ņ—Ä–ł—Ä–ĺ–ī—č –∑–Ľ–į. –í-—ā—Ä–Ķ—ā—Ć–ł—Ö, –Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ—É –≤—Ä–į–∂–ī–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤ –Ņ–ĺ –ĺ—ā–Ĺ–ĺ—ą–Ķ–Ĺ–ł—é –ļ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ—É –ĺ–Ĺ –ĺ–Ī—ä—Ź—Ā–Ĺ–ł–Ľ —ā–Ķ–ľ, —á—ā–ĺ —ā–ĺ—ā –Ī—Ä–ĺ—Ā–ł–Ľ –≤—č–∑–ĺ–≤ –ł—Ö ¬ę–į–≤—ā–ĺ—Ä–ł—ā–Ķ—ā—É –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā–ĺ—Ä–ĺ–≤¬Ľ, ¬ę–į—Ä–Ī–ł—ā—Ä–ĺ–≤ –≤–ļ—É—Ā–į¬Ľ, —á–Ķ–≥–ĺ –ĺ–Ĺ–ł –Ĺ–ł–ļ–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥–Ľ–ł –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ł—ā—Ć, –ĺ—ā–ļ–į–∑—č–≤–į—Ź—Ā—Ć –ī–į–∂–Ķ –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į—ā—Ć –Ķ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź —á–į—Ā—ā—Ć—é ¬ę–į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—ɗė謼[62][23]. –ź–≤—Ā—ā—Ä–į–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ł–Ļ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –•—ć–Ľ –ö–ĺ—É–Ľ–Ī–į—ā—á[–į–Ĺ–≥–Ľ.][64][65], –į –∑–į—ā–Ķ–ľ –ł –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –ü–į—ā—Ä–ł–ļ –ö–į—Ä—Ä–ł[–į–Ĺ–≥–Ľ.] –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł–Ľ–ł –Ĺ–į –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ—É –ö—ć—ā—Ä–ł–Ĺ –°—ā–ł–ľ–Ņ—Ā–ĺ–Ĺ[23][66]:
–í –Ĺ–į—á–į–Ľ–Ķ 2000-—Ö –≥–ĺ–ī–ĺ–≤ –ļ–ĺ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –į–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–Ļ –ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–Ķ –∑–į–ľ–Ķ—ā–Ĺ–ĺ –≤—č—Ä–ĺ—Ā–Ľ–ĺ. –í 2004 –≥–ĺ–ī—É –Ī—č–Ľ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ –∂—É—Ä–Ĺ–į–Ľ Tolkien Studies[–į–Ĺ–≥–Ľ.] . –í —ā–ĺ–ľ –∂–Ķ –≥–ĺ–ī—É –Ě–ł–Ľ –Ē. –ė—Ā–į–ļ—Ā (–į–Ĺ–≥–Ľ. Neil D. Isaacs) –≤—č–Ņ—É—Ā—ā–ł–Ľ –į–Ĺ—ā–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—é –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –ł –Ņ—Ä–ĺ–ļ–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ľ —ć—ā–ĺ —ā–į–ļ: ¬ę–í —ć—ā–ĺ–ľ —Ā–Ī–ĺ—Ä–Ĺ–ł–ļ–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į–Ķ—ā—Ā—Ź, —á—ā–ĺ –į—Ä–≥—É–ľ–Ķ–Ĺ—ā –ĺ —Ü–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –ł –≤–Ľ–ł—Ź–Ĺ–ł–ł ‚Äě–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—Ü‚Äú –Ī—č–Ľ —Ä–į–∑—Ä–Ķ—ą—Ď–Ĺ –≤ –Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É [‚Ķ] –ļ —É–ī–ĺ–≤–Ľ–Ķ—ā–≤–ĺ—Ä–Ķ–Ĺ–ł—é –Ķ–≥–ĺ –ĺ–≥—Ä–ĺ–ľ–Ĺ–ĺ–Ļ, —Ä–į—Ā—ā—É—Č–Ķ–Ļ –ł –Ņ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –į—É–ī–ł—ā–ĺ—Ä–ł–ł [‚Ķ] –ł –Ĺ–į –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–ł –∑–Ĺ–į—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ —á–į—Ā—ā–ł –ļ—Ä–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ĺ–ļ¬Ľ[67]. –° 2014 –≥–ĺ–ī–į —Ā—ā–į–Ľ –≤—č—Ö–ĺ–ī–ł—ā—Ć Journal of Tolkien Research[68]. –ė–∑–Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –∑–į–Ņ—Ä–ĺ—Ā –ĺ –≥–Ľ—É–Ī–ĺ–ļ–ĺ–ľ –ł–∑—É—á–Ķ–Ĺ–ł–ł –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –ł—Ā—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ –ĺ—ā –Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ–ļ–Ľ–ĺ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤, –į –Ĺ–Ķ –ĺ—ā –į–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł–ļ–ĺ–≤. –ü—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ĺ—Ä –į–Ĺ–≥–Ľ–ł–Ļ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä—č –Ě–ĺ—Ä–Ī–Ķ—Ä—ā –®—é—Ä–Ķ—Ä –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –į–≤—ā–ĺ—Ä—č –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ļ –Ņ–ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ—É, —Ā –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ—č, –Ĺ–Ķ —Ö–ĺ—ā—Ź—ā –ļ–į–∑–į—ā—Ć—Ā—Ź –Ľ—Ć—Ā—ā–ł–≤—č–ľ–ł ¬ę—Ą–į–Ĺ–į—ā–į–ľ–ł¬Ľ, –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É –ł—Ö –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–ł –Ņ—Ä–ł–Ĺ–ł–ľ–į—é—ā –į–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ —ā–ĺ–Ĺ, —Ā –ī—Ä—É–≥–ĺ–Ļ —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ—č ‚ÄĒ —Ö–ĺ—ā—Ź—ā —É–≥–ĺ–ī–ł—ā—Ć –Ņ–ĺ–ļ–Ľ–ĺ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–į–ľ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į, –Ņ–ĺ—ć—ā–ĺ–ľ—É –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥—É—ā –Ĺ–į–Ņ–į–ī–į—ā—Ć –Ĺ–į –į–≤—ā–ĺ—Ä–į ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ. –ě–Ĺ –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –Ĺ–į—Ä—Ź–ī—É —Ā ¬ę–Ņ—Ä–Ķ–≤–ĺ—Ā—Ö–ĺ–ī–Ĺ—č–ľ–ł –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–į–ľ–ł¬Ľ (–≤ —á–ł—Ā–Ľ–Ķ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –≤—č–ī–Ķ–Ľ–ł–Ľ –Ę–ĺ–ľ–į –®–ł–Ņ–Ņ–ł, –í–Ķ—Ä–Ľ–ł–Ĺ –§–Ľ–ł–≥–Ķ—Ä –ł –Ē–∂–Ķ–Ļ–Ĺ –ß–Ķ–Ĺ—Ā) –ł ¬ę–≤—č–ī–į—é—Č–ł–ľ–ł—Ā—Ź –į–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ–ł –Ņ–Ľ–ĺ—Č–į–ī–ļ–į–ľ–ł¬Ľ (–≤ —á–ł—Ā–Ľ–Ķ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –ĺ–Ĺ —É–ļ–į–∑–į–Ľ ¬ę–į–≤—ā–ĺ—Ä–ł—ā–Ķ—ā–Ĺ—č–Ļ¬Ľ –∂—É—Ä–Ĺ–į–Ľ Mythlore –ł –Ķ–∂–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ–ł–ļ Tolkien Studies) —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–ĺ–Ķ –ļ–ĺ–Ľ–ł—á–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ –Ĺ–Ķ–ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–Ļ –ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–Ķ. –í —á–į—Ā—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, –ĺ–Ĺ —Ä–į—Ā–ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤–į–Ľ —Ā–Ī–ĺ—Ä–Ĺ–ł–ļ —ć—Ā—Ā–Ķ Tolkien Among the Moderns, –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–≤, —á—ā–ĺ –≤ –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł—Ź—Ö –Ņ—Ä–ł–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ—č –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ—č–Ķ —Ā—Ä–į–≤–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į —Ā –ī—Ä—É–≥–ł–ľ–ł –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź–ľ–ł, –Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ–Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–Ĺ–ĺ, –ļ–į–ļ—É—é –Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑—É —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ—Ā—Ď—ā –ī–Ľ—Ź –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł—Ź –Ķ–≥–ĺ –ļ–Ĺ–ł–≥. –í —Ā–Ī–ĺ—Ä–Ĺ–ł–ļ–Ķ —ć—Ā—Ā–Ķ Tolkien in the New Century: Essays in Honor of Tom Shippey –®—é—Ä–Ķ—Ä —É–≤–ł–ī–Ķ–Ľ –Ņ—Ä–ĺ–Ī–Ľ–Ķ–ľ—É ¬ę—á—Ä–Ķ–∑–ľ–Ķ—Ä–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł–∑—É—á–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–Ĺ—č—Ö, –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č—Ö –ł —Ź–∑—č–ļ–ĺ–≤—č—Ö –≤–Ľ–ł—Ź–Ĺ–ł–Ļ¬Ľ –Ĺ–į –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ ¬ę–ľ–ĺ–≥—É—ā –Ī—č—ā—Ć –Ņ–ĺ–∑–Ĺ–į–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ–ł¬Ľ, –Ĺ–ĺ, –Ņ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–į, –ľ–į–Ľ–ĺ –≤–Ľ–ł—Ź—é—ā –Ĺ–į –Ĺ–į—ą—É –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ņ—Ä–Ķ—ā–į—Ü–ł—é –Ķ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ. –ü—Ä–ł —ć—ā–ĺ–ľ –ĺ–Ĺ –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –Ķ—Ā—ā—Ć –ł –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–ł, –Ĺ–į–Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä –ļ–Ĺ–ł–≥–į Companion to J.R.R. Tolkien (2014), —Ā–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–į—Č–į—Ź —Ä—Ź–ī ¬ę–≥–Ľ—É–Ī–ĺ–ļ–ł—Ö¬Ľ —ć—Ā—Ā–Ķ[58][69]. –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ—É –Ĺ–Ķ –Ĺ—Ä–į–≤–ł–Ľ—Ā—Ź –Ĺ–ł –Ĺ–į—Ü–ł–∑–ľ, –Ĺ–ł –ļ–ĺ–ľ–ľ—É–Ĺ–ł–∑–ľ; –•—ć–Ľ –ö–ĺ—É–Ľ–Ī–į—ā—á[–į–Ĺ–≥–Ľ.] –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī—č –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć –ł–∑ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–Ķ–Ļ –≥–Ľ–į–≤—č ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ, ¬ę–ě—á–ł—Č–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –®–ł—Ä–į¬Ľ. –õ–Ķ–≤—č–Ķ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł —Ä–Ķ–≥—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ –į—ā–į–ļ–ĺ–≤–į–Ľ–ł –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –∑–į –Ķ–≥–ĺ –ļ–ĺ–Ĺ—Ā–Ķ—Ä–≤–į—ā–ł–≤–Ĺ—č–Ķ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī—č[65]. –≠. –ü. –Ę–ĺ–ľ–Ņ—Ā–ĺ–Ĺ –≤ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ ¬ę–ź–ľ–Ķ—Ä–ł–ļ–į–Ĺ—Ā–ļ–į—Ź –ē–≤—Ä–ĺ–Ņ–į: —Ö–ĺ–Ī–Ī–ł—ā —Ā—Ä–Ķ–ī–ł –≥—ć–Ĺ–ī–į–Ľ—Ć—Ą–ĺ–≤¬Ľ –∑–į—Ź–≤–ł–Ľ, —á—ā–ĺ ¬ę—Ź—Ā—ā—Ä–Ķ–Ī–ł–Ĺ–į—Ź¬Ľ –Ĺ–į–Ņ—Ä–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć ¬ę–í–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–ĺ–ļ—ā—Ä–ł–ŗ謼 –°–®–ź 1980-—Ö –≥–ĺ–ī–ĺ–≤ –≤—č–∑–≤–į–Ĺ–į ¬ę–ł–Ĺ—Ą–į–Ĺ—ā–ł–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ¬Ľ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī–ĺ–ľ –Ĺ–į –ľ–ł—Ä, –Ņ–ĺ—Ź–≤–ł–≤—ą–ł–ľ—Ā—Ź, –ļ–į–ļ –ĺ–Ĺ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ, –ł–∑-–∑–į —ā–ĺ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ –Ķ—Ď –į–≤—ā–ĺ—Ä—č ¬ę—Ā–Ľ–ł—ą–ļ–ĺ–ľ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł —Ā–Ľ–ł—ą–ļ–ĺ–ľ —Ä–į–Ĺ–ĺ –Ĺ–į—á–į–Ľ–ł —á–ł—ā–į—ā—Ć ‚Äě–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—Ü‚Äú¬Ľ[70][71]. –ě–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ –Ĺ–Ķ –≤—Ā–Ķ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č–Ķ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł –ľ–į—Ä–ļ—Ā–ł—Ā—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —ā–ĺ–Ľ–ļ–į –Ĺ–Ķ–≥–į—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ –ĺ—ā–∑—č–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ĺ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–Ķ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ. –ö—Ä–ł—ā–ł–ļ—É—Ź –Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –≤–∑–≥–Ľ—Ź–ī—č –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į[72], –ß–į–Ļ–Ĺ–į –ú—Ć–Ķ–≤–ł–Ľ—Ć –Ņ–ĺ—Ö–≤–į–Ľ–ł–Ľ —ā–ĺ, –ļ–į–ļ —ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā–ļ–ł –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ľ —ć–Ľ–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ—ā—č —Ā–ļ–į–Ĺ–ī–ł–Ĺ–į–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ľ–ł—Ą–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł, —ā—Ä–į–≥–Ķ–ī–ł–ł, –ľ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–≤ –ł –≤ —Ü–Ķ–Ľ–ĺ–ľ —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ –ľ–ł—Ä, —ā–į–ļ–∂–Ķ —Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ–ł–≤ —Ā –Ĺ–ł–ľ –Ĺ–Ķ–Ľ—é–Ī–ĺ–≤—Ć –ļ –į–Ľ–Ľ–Ķ–≥–ĺ—Ä–ł–ł[73]. –õ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ–į—Ź –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ļ–į–Ę–ĺ–ľ –®–ł–Ņ–Ņ–ł –≤ ¬ę–Ē–ĺ—Ä–ĺ–≥–Ķ –≤ –°—Ä–Ķ–ī–ł–∑–Ķ–ľ—Ć–Ķ¬Ľ —Ā–ĺ—Ā–Ľ–į–Ľ—Ā—Ź –Ĺ–į —Ä–į–Ī–ĺ—ā—É ¬ę–ź–Ĺ–į—ā–ĺ–ľ–ł—Ź –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł¬Ľ –Ě–ĺ—Ä—ā—Ä–ĺ–Ņ–į –§—Ä–į—Ź, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –ī–Ķ–Ľ–ł–Ľ –≤—Ā–Ķ —Ö—É–ī–ĺ–∂–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–į –Ņ—Ź—ā—Ć ¬ę–Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č—Ö –ľ–ĺ–ī—É—Ā–ĺ–≤¬Ľ (–Ņ–ĺ –ľ–Ķ—Ä–Ķ —É–Ī—č–≤–į–Ĺ–ł—Ź —Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ–ł –Ņ—Ä–Ķ–≤–ĺ—Ā—Ö–ĺ–ī—Ā—ā–≤–į –≥–Ķ—Ä–ĺ—Ź: –ľ–ł—Ą, —Ā–ļ–į–∑–į–Ĺ–ł–Ķ –ł–Ľ–ł –Ľ–Ķ–≥–Ķ–Ĺ–ī–į, —ć–Ņ–ĺ—Ā –ł–Ľ–ł —ā—Ä–į–≥–Ķ–ī–ł—Ź, –ļ–ĺ–ľ–Ķ–ī–ł—Ź –ł–Ľ–ł —Ä–Ķ–į–Ľ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–į, –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–į). –®–ł–Ņ–Ņ–ł –ĺ—ā–Ĺ—Ď—Ā ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –≤ —ā—Ä–Ķ—ā—Ć–Ķ–ľ—É, ¬ę—Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–ľ—ɬĽ –ľ–ĺ–ī—É—Ā—É, —ā–ĺ –Ķ—Ā—ā—Ć –ļ —ć–Ņ–ĺ—Ā—É –ł–Ľ–ł —ā—Ä–į–≥–Ķ–ī–ł–ł, –Ĺ–ĺ –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ —É–ī–į—á–Ĺ–ĺ —Ā–ĺ—á–Ķ—ā–į–Ķ—ā ¬ę–≤—Ā—é –ł–Ķ—Ä–į—Ä—Ö–ł—é —Ā—ā–ł–Ľ–Ķ–Ļ¬Ľ –Ņ–ĺ –§—Ä–į—é, –ĺ—ā –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ (–ĺ–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–ł—Ź –Ď–ł–Ľ—Ć–Ī–ĺ –ł —Ö–ĺ–Ī–Ī–ł—ā–ĺ–≤), –Ĺ–į–ł–Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ł –ĺ–∂–ł–ī–į–Ķ–ľ–ĺ–≥–ĺ —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ, –ī–ĺ –≤–ĺ–∑–≤—č—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ľ–ł—Ą–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ (¬ę–≤—č—Ā–ĺ–ļ–ł–Ļ¬Ľ —Ā—ā–ł–Ľ—Ć –Ņ—Ä–ł –ĺ–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–ł–ł –ĺ—Ā–į–ī—č –ď–ĺ–Ĺ–ī–ĺ—Ä–į, –ĺ—ā—Ā—č–Ľ–ļ–ł –ļ ¬ę–°–ł–Ľ—Ć–ľ–į—Ä–ł–Ľ–Ľ–ł–ĺ–ŗɬĽ)[74].  –Ď—Ä–į–Ļ–į–Ĺ –†–ĺ—É–∑–Ī–Ķ—Ä–ł –≤ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–≥–Ķ ¬ę–Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ: –ö—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–Ĺ—č–Ļ —Ą–Ķ–Ĺ–ĺ–ľ–Ķ–ŬĽ –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ —Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź –ĺ–ī–Ĺ–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ļ–≤–Ķ—Ā—ā–ĺ–ľ[–į–Ĺ–≥–Ľ.] (–Ņ–ĺ—Ö–ĺ–ī –≤ –ú–ĺ—Ä–ī–ĺ—Ä —Ā —Ü–Ķ–Ľ—Ć—é —É–Ĺ–ł—á—ā–ĺ–∂–ł—ā—Ć –ö–ĺ–Ľ—Ć—Ü–ĺ) –ł ¬ę–Ņ—Ä–ĺ–≥—É–Ľ–ļ–ĺ–Ļ¬Ľ –Ņ–ĺ –∂–ł–≤–ĺ–Ņ–ł—Ā–Ĺ—č–ľ (–ł –Ĺ–Ķ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć) –ľ–Ķ—Ā—ā–į–ľ –°—Ä–Ķ–ī–ł–∑–Ķ–ľ—Ć—Ź, –ĺ–Ņ–ł—Ā–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ —Ā –≥–Ľ—É–Ī–ĺ–ļ–ĺ–Ļ –ī–Ķ—ā–į–Ľ–ł–∑–į—Ü–ł–Ķ–Ļ. –ě–Ĺ –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –į–ļ—Ü–Ķ–Ĺ—ā –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ–Ļ —á–į—Ā—ā–ł —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į, –ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–≥–ł, –≤ –∑–Ĺ–į—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā—ā–Ķ–Ņ–Ķ–Ĺ–ł –ĺ–Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ, –į –Ĺ–Ķ —Ā—é–∂–Ķ—ā–Ĺ—č–Ļ, –Ī–Ľ–į–≥–ĺ–ī–į—Ä—Ź —á–Ķ–ľ—É —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –Ņ–ĺ–≥—Ä—É–∂–į–Ķ—ā—Ā—Ź –≤ –ľ–ł—Ä –°—Ä–Ķ–ī–ł–∑–Ķ–ľ—Ć—Ź. –Ě–į —Ą–ĺ–Ĺ–Ķ —ć—ā–ĺ–Ļ –∑–į—á–į—Ā—ā—É—é ¬ę–ľ–Ķ–ī–Ľ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ¬Ľ –ĺ–Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –Ķ—Ā—ā—Ć –ĺ–Ī—ä–Ķ–ī–ł–Ĺ—Ź—é—Č–į—Ź —Ā—é–∂–Ķ—ā–Ĺ–į—Ź –Ľ–ł–Ĺ–ł—Ź ‚ÄĒ —Ā—ā—Ä–Ķ–ľ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —É–Ĺ–ł—á—ā–ĺ–∂–ł—ā—Ć –ö–ĺ–Ľ—Ć—Ü–ĺ. –Ě–ĺ —Ą–ĺ–ļ—É—Ā —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ–į, –Ņ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é –†–ĺ—É–∑–Ī–Ķ—Ä–ł, —Ā–ļ–ĺ–Ĺ—Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ –Ĺ–Ķ –Ĺ–į —Ā—é–∂–Ķ—ā–Ķ, –į –Ĺ–į –ī–Ķ—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ –ľ–ł—Ä–Ķ –°—Ä–Ķ–ī–ł–∑–Ķ–ľ—Ć—Ź, —á—ā–ĺ –ł —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–Ľ–ĺ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ ¬ę–ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–Ĺ—č–ľ —Ą–Ķ–Ĺ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–ľ¬Ľ[75]. –ö—ć—Ä–ĺ–Ľ–ł–Ĺ –ď–į–Ľ—É—ć–Ļ –≤ —Ā—ā–į—ā—Ć–Ķ ¬ę–ü—Ä–ł—á–ł–Ĺ—č –Ĺ–Ķ –Ľ—é–Ī–ł—ā—Ć –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į¬Ľ (–≤ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–ł –Ņ—Ä–ł—Ā—É—ā—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā –Ē–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł –Ę–Ķ—Ä–Ĺ–Ķ—Ä, —á—Ć—Ź —Ā—ā–į—ā—Ć—Ź —Ā –Ĺ–į–Ņ–į–ī–ļ–į–ľ–ł –Ĺ–į –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ľ–į—Ā—Ć ¬ę–ü—Ä–ł—á–ł–Ĺ—č –Ľ—é–Ī–ł—ā—Ć –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į¬Ľ), –ĺ—ā–≤–Ķ—ā–ł–Ľ–į –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–į–ľ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ, –≤ –ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –Ē–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł –Ę–Ķ—Ä–Ĺ–Ķ—Ä. –ě–Ĺ–į –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ–į, —á—ā–ĺ –ī–į–∂–Ķ –≤ XXI –≤–Ķ–ļ–Ķ —Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤—É–Ķ—ā –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≤—Ä–į–∂–ī–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ –Ĺ–į—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ļ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ—É –ľ–Ķ–ī–ł–į–Ņ–Ķ—Ä—Ā–ĺ–Ĺ, –≤ —á–į—Ā—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł, –≤ –≥–į–∑–Ķ—ā–į—Ö –ł –Ĺ–į —ā–Ķ–Ľ–Ķ–≤–ł–ī–Ķ–Ĺ–ł–ł, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö —Ä–į–∑–ī—Ä–į–∂–į–Ķ—ā –Ņ–ĺ–Ņ—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –ł –Ķ–≥–ĺ –≤—č—Ā–ĺ–ļ–ł–Ķ —Ä–Ķ–Ļ—ā–ł–Ĺ–≥–ł –≤ —Ä–į–∑–Ĺ–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–Ĺ—č—Ö –≥–ĺ–Ľ–ĺ—Ā–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź—Ö —Ā—Ä–Ķ–ī–ł —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ. –ü–ĺ –Ķ—Ď –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é, –Ņ—Ä–ł –į–Ĺ–į–Ľ–ł–∑–Ķ —Ą–Ķ–Ĺ–ĺ–ľ–Ķ–Ĺ–į —ć—ā–ĺ–Ļ –≤—Ä–į–∂–ī–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł –≤–į–∂–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ—Ź—ā—Ć –Ĺ–Ķ —ā–ĺ, —á—ā–ĺ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź—ā, –į —ā–ĺ, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ–ł –Ĺ–Ķ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź—ā (—ā–ĺ –Ķ—Ā—ā—Ć —ā–ĺ, —á—ā–ĺ —Ā–ļ—Ä—č–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź –∑–į –ł—Ö –į—Ä–≥—É–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į–ľ–ł)[76]. –ď–į–Ľ—É—ć–Ļ —É—ā–≤–Ķ—Ä–∂–ī–į–Ķ—ā, —á—ā–ĺ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ ‚ÄĒ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–į, —ā–ĺ, —á—ā–ĺ –ö. –°. –õ—Ć—é–ł—Ā –Ĺ–į–∑–≤–į–Ľ ¬ę—Ä–į–ī–ĺ—Ā—ā—Ɨ鬼 –ł–Ľ–ł ¬ę—Ā–Ľ–į–ī–ļ–ł–ľ –∂–Ķ–Ľ–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ¬Ľ, —Ā—ā—Ä–Ķ–ľ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ–ľ ¬ę–Ņ—Ä–ł–ļ–ĺ—Ā–Ĺ—É—ā—Ć—Ā—Ź –ļ –Ĺ–Ķ–ī–ĺ—Ā—ā–ł–∂–ł–ľ–ĺ–Ļ –ļ—Ä–į—Ā–ĺ—ā–Ķ¬Ľ –ł —ā–ĺ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ –Ĺ–Ķ–Ļ. –ė–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —ć—ā–ĺ—ā —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ—ā–ł–∑–ľ, —ć—ā–ĺ —ā—Ź–≥–į –ļ –≤–ĺ–∑–≤—č—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ—É, –Ņ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é –ď–į–Ľ—É—ć–Ļ, –Ī–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ —Ä–į–∑–ī—Ä–į–∂–į–Ķ—ā –Ē–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł –Ę–Ķ—Ä–Ĺ–Ķ—Ä, –į—ā–į–ļ—É—é—Č—É—é –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į —Ā —Ą—Ä–Ķ–Ļ–ī–ł—Ā—ā—Ā–ļ–ł—Ö –Ņ–ĺ–∑–ł—Ü–ł–Ļ, –ł –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ—č—Ö –Ķ–Ļ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤. –í –Ņ—Ā–ł—Ö–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ņ—Ä–Ķ—ā–į—Ü–ł–ł –ď–į–Ľ—É—ć–Ļ –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ—č–Ķ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł –ł—Ā–Ņ—č—ā—č–≤–į—é—ā ¬ę—ć–ļ–∑–ł—Ā—ā–Ķ–Ĺ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ —Ā—ā—Ä–į—Ö¬Ľ –ĺ—ā —ā–ĺ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ –Ņ–ł—ą–Ķ—ā –ĺ ¬ę—Ä–į–ī–ĺ—Ā—ā–ł¬Ľ, –ĺ–Ĺ ‚ÄĒ –Ĺ–Ķ –ī–Ķ–Ņ—Ä–Ķ—Ā—Ā–ł–≤–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –ł –Ĺ–Ķ —Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ—Ź–Ķ—ā –ł—Ö —Ü–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł ¬ę–Ĺ–į—Ö–ĺ–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤ –ľ—Ä–į—á–Ĺ–ĺ–Ļ —ā—é—Ä—Ć–ľ–Ķ, –ļ–ĺ–≥–ī–į —Ā–Ĺ–į—Ä—É–∂–ł —Ā–≤–Ķ—ā–ł—ā —Ā–ĺ–Ľ–Ĺ—Ü–Ķ¬Ľ[76]. –í 2013 –≥–ĺ–ī—É –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć –Ę–Ķ—Ä—Ä–ł –ü—Ä–į—ā—á–Ķ—ā—ā —Ā—Ä–į–≤–Ĺ–ł–Ľ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į —Ā –≥–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –§—É–ī–∑–ł—Ź–ľ–į –≤ –∂–į–Ĺ—Ä–Ķ —Ą—ć–Ĺ—ā–Ķ–∑–ł, –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–≤, —á—ā–ĺ –Ľ—é–Ī–ĺ–Ļ –į–≤—ā–ĺ—Ä –≤ —ć—ā–ĺ–ľ –∂–į–Ĺ—Ä–Ķ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –Ľ–ł–Ī–ĺ –ĺ—Ā–ĺ–∑–Ĺ–į–Ĺ–Ĺ–ĺ –ł–ī—Ď—ā ¬ę–Ņ—Ä–ĺ—ā–ł–≤ –≥–ĺ—Ä—č, —á—ā–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ –Ņ–ĺ —Ā–Ķ–Ī–Ķ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ–ĺ, –Ľ–ł–Ī–ĺ —Ā—ā–ĺ–ł—ā –Ĺ–į –Ĺ–Ķ–Ļ¬Ľ[77]. –í 2016 –≥–ĺ–ī—É –Ī—Ä–ł—ā–į–Ĺ—Ā–ļ–į—Ź –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü–į –ł –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č–Ļ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ –†–ĺ–∑ –ö–į–≤–Ķ–Ĺ–ł[–į–Ĺ–≥–Ľ.] –≤ –∂—É—Ä–Ĺ–į–Ľ–Ķ The Times Literary Supplement —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–Ľ–į –ĺ–Ī–∑–ĺ—Ä –Ņ—Ź—ā–ł –ļ–Ĺ–ł–≥, –Ņ–ĺ—Ā–≤—Ź—Č—Ď–Ĺ–Ĺ—č—Ö –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ—É. –ě–Ĺ–į –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į–Ľ–į—Ā—Ć, —á—ā–ĺ –≤ 1991 –≥–ĺ–ī—É –Ĺ–į–∑–≤–į–Ľ–į ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –ī–ĺ—Ā—ā–ĺ–Ļ–Ĺ—č–ľ ¬ę–ĺ—Ā–ľ—č—Ā–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—á—ā–Ķ–Ĺ–ł—Ź, –Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā—ā—Ä–į—Ā—ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –≤–Ĺ–ł–ľ–į–Ĺ–ł—Ź¬Ľ[78], –Ĺ–ĺ –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ľ–į —Ā–≤–ĺ—Ď –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ, –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į–≤, —á—ā–ĺ –Ĺ–Ķ–ī–ĺ–ĺ—Ü–Ķ–Ĺ–ł–Ľ–į –Ķ–≥–ĺ, –ł —á—ā–ĺ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ –Ņ—Ä–ł–ĺ–Ī—Ä–Ķ–Ľ –ī–ĺ–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—É—é –Ņ–ĺ–Ņ—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ł ¬ę–ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–Ĺ—č–Ļ –Ī–Ľ–Ķ—Ā–ļ¬Ľ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —ć–ļ—Ä–į–Ĺ–ł–∑–į—Ü–ł–ł –ü–ł—ā–Ķ—Ä–į –Ē–∂–Ķ–ļ—Ā–ĺ–Ĺ–į[78]. –ö–į–ļ –ł –ü—Ä–į—ā—á–Ķ—ā—ā, –ĺ–Ĺ–į –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ľ–į –ľ–Ķ—ā–į—Ą–ĺ—Ä—É —Ā –≥–ĺ—Ä–į–ľ–ł: ¬ę–ö–Ĺ–ł–≥–ł –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į —Ā—ā–į–Ľ–ł –ź–Ľ—Ć–Ņ–į–ľ–ł, –ł –Ĺ–į–Ņ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ –∂–ī–į—ā—Ć, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ–ł —Ä—É—Ö–Ĺ—É—ā¬Ľ[78] (–į–Ľ–Ľ—é–∑–ł—Ź –Ĺ–į —Ā—ā–ł—Ö On The Fly-Leaf Of Pound‚Äôs Cantos –Ď—ć–∑–ł–Ľ–į –Ď–į–Ĺ—ā–ł–Ĺ–≥–į)[79]. –ö–į–≤–Ķ–Ĺ–ł –Ĺ–į–∑–≤–į–Ľ–į –ļ–Ĺ–ł–≥–ł –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į ¬ę–Ĺ–į—Ā—č—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł —ā–Ķ–ļ—Ā—ā–į–ľ–ł¬Ľ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ľ—É—á—ą–Ķ —á–ł—ā–į—ā—Ć, –ĺ–Ī–Ľ–į–ī–į—Ź –∑–Ĺ–į–Ĺ–ł—Ź–ľ–ł –ĺ –ľ–ł—Ä–Ķ –°—Ä–Ķ–ī–ł–∑–Ķ–ľ—Ć—Ź, –į –Ĺ–Ķ –ļ–į–ļ —Ā–į–ľ–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –ě–Ĺ–į –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ–į, —á—ā–ĺ —É –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –Ī—č–Ľ–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –ĺ–Ī—Č–Ķ–≥–ĺ —Ā –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ź–ľ–ł-–ľ–ĺ–ī–Ķ—Ä–Ĺ–ł—Ā—ā–į–ľ–ł –≤—Ä–ĺ–ī–Ķ –Ę–ĺ–ľ–į—Ā–į –≠–Ľ–ł–ĺ—ā–į –ł –Ĺ–į–∑–≤–į–Ľ–į ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ ¬ę—Ö–ĺ—Ä–ĺ—ą–Ķ–Ļ, —É–ľ–Ĺ–ĺ–Ļ, –≤–Ľ–ł—Ź—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–Ļ –ł –Ņ–ĺ–Ņ—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–Ĺ–ł–≥–ĺ–Ļ¬Ľ, —Ö–ĺ—ā—Ź –ł –Ĺ–Ķ ¬ę–≤—č–ī–į—é—Č–ł–ľ—Ā—Ź –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā—É—Ä–Ĺ—č–ľ —ą–Ķ–ī–Ķ–≤—Ä–ĺ–ľ¬Ľ[78]. –≠–Ĺ–ī—Ä—é –•–ł–≥–≥–ł–Ĺ—Ā, –ĺ–Ī–ĺ–∑—Ä–Ķ–≤–į—Ź –ļ–Ĺ–ł–≥—É A Companion to J. R. R. Tolkien (2014), –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ ¬ę–ł–ľ–Ķ–Ĺ–ł—ā—č–Ļ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤¬Ľ –į–≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–≤ 36 —Ā—ā–į—ā–Ķ–Ļ (–≤—č–ī–Ķ–Ľ–ł–≤ —ā–į–ļ–ł—Ö –į–≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–≤, –ļ–į–ļ –Ę–ĺ–ľ –®–ł–Ņ–Ņ–ł, –í–Ķ—Ä–Ľ–ł–Ĺ –§–Ľ–ł–≥–Ķ—Ä, –Ē–ł–ľ–ł—ā—Ä–į –§–ł–ľ–ł, –Ē–∂–ĺ–Ĺ –Ē. –†–Ķ–Ļ—ā–Ľ–ł—Ą—Ą–į –ł –ď—Ä–Ķ–≥–ĺ—Ä–ł –Ě–į–ī—Ć). –ě–Ĺ –∑–į—Ź–≤–ł–Ľ: ¬ę–ī–Ķ–Ļ—Ā—ā–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —Ä–į–ī–ĺ—Ā—ā–Ĺ–ĺ, —á—ā–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł—Ö –Ľ–Ķ—ā –≤–Ķ–∂–Ľ–ł–≤–ĺ–≥–ĺ (–ł –Ĺ–Ķ –ĺ—á–Ķ–Ĺ—Ć) –Ņ—Ä–Ķ–Ĺ–Ķ–Ī—Ä–Ķ–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ł –ł–≥–Ĺ–ĺ—Ä–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–ł—Ź —Ā–ĺ —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ—č ‚Äě–į–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ‚Äú –ł—Ā—ā–Ķ–Ī–Ľ–ł—ą–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į –ł ‚Äě–ļ—É–Ľ—Ć—ā—É—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ –ł–Ĺ—ā–Ķ–Ľ–Ľ–ł–≥–Ķ–Ĺ—Ü–ł–ł‚Äú –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ –≤–ĺ—ą–Ķ–Ľ –≤ ‚Äě–į–ļ–į–ī–Ķ–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ļ –Ņ–į–Ĺ—ā–Ķ–ĺ–Ĺ‚Äú Blackwell's[–į–Ĺ–≥–Ľ.]¬Ľ. –•–ł–≥–≥–ł–Ĺ—Ā –ĺ—Ā–ĺ–Ī–ĺ –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ —Ä–Ķ–ī–į–ļ—ā–ĺ—Ä–į –°—ā—é–į—Ä—ā–į –Ē. –õ–ł[–į–Ĺ–≥–Ľ.], –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ —Ā–ľ–ĺ–≥ –ļ–į—á–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ —ā–Ķ–ľ–į—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł —Ā—ā—Ä—É–ļ—ā—É—Ä–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć –ļ–Ĺ–ł–≥—É, –Ņ–ĺ–ļ–į–∑–į–≤ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –ļ–į–ļ —á–Ķ–Ľ–ĺ–≤–Ķ–ļ–į, —Ā—ā—É–ī–Ķ–Ĺ—ā–į, –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ź –ł —ā–≤–ĺ—Ä—Ü–į, –į —ā–į–ļ–∂–Ķ –Ņ—Ä–ĺ–ī–Ķ–ľ–ĺ–Ĺ—Ā—ā—Ä–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć —Ä–į–∑–Ĺ—č–Ķ —ā–Ķ–ľ—č –Ķ–≥–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł–Ļ[80]. –ü–į—ā—Ä–ł–ļ –ö–į—Ä—Ä–ł –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –Ņ–ĺ–Ņ—č—ā–ļ–ł –ī–į—ā—Ć —Ā–Ī–į–Ľ–į–Ĺ—Ā–ł—Ä–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –ĺ—ā–≤–Ķ—ā –ł –Ĺ–į–Ļ—ā–ł ¬ę–Ņ–ĺ–∑–ł—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–≥–嬼 –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–į –Ĺ–į –ļ–į–∂–ī–ĺ–≥–ĺ ¬ę–Ĺ–Ķ–≥–į—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–≥–嬼, –ļ–į–ļ —ć—ā–ĺ –Ņ—č—ā–į–Ľ—Ā—Ź —Ā–ī–Ķ–Ľ–į—ā—Ć –Ē—ć–Ĺ–ł–Ķ–Ľ –Ę–ł–ľ–ľ–ĺ–Ĺ—Ā[53], –Ī—č–Ľ–ł ¬ę–≤–ĺ—Ā—Ö–ł—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ľ–ł—Ä–ĺ–Ľ—é–Ī–ł–≤—č–ľ–ł, –Ĺ–ĺ –ĺ–Ī–ľ–į–Ĺ—á–ł–≤—č–ľ–ł¬Ľ[23], —ā–į–ļ –ļ–į–ļ –ĺ–Ĺ–ł –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–≥–Ľ–ł —É—Ā—ā—Ä–į–Ĺ–ł—ā—Ć –Ņ—Ä–ł—á–ł–Ĺ—č –≤—Ä–į–∂–ī–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł. –ö–į—Ä—Ä–ł –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –į—ā–į–ļ–ł –Ĺ–į –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –Ĺ–į—á–į–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā—Ä–į–∑—É –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –≤—č—Ö–ĺ–ī–į ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–į –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ –ł —É—Ā–ł–Ľ–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —ā–ĺ–≥–ĺ, –ļ–į–ļ —Ä–ĺ–ľ–į–Ĺ –Ņ—Ä–ł–ĺ–Ī—Ä—Ď–Ľ –Ņ–ĺ–Ņ—É–Ľ—Ź—Ä–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć (1965 –≥–ĺ–ī), –≤–ĺ–∑–ĺ–Ī–Ĺ–ĺ–≤–ł–≤—ą–ł—Ā—Ć —Ā –Ĺ–ĺ–≤–ĺ–Ļ —Ā–ł–Ľ–ĺ–Ļ –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ —á–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā–ļ–ł—Ö –ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ĺ–≤ Waterstones –ł BBC Radio 4 –≤ 1996‚ÄĒ1998 –≥–ĺ–ī–į—Ö, –į –∑–į—ā–Ķ–ľ –ł –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ –≤—č—Ö–ĺ–ī–į –ļ–ł–Ĺ–ĺ—ā—Ä–ł–Ľ–ĺ–≥–ł–ł –ü–ł—ā–Ķ—Ä–į –Ē–∂–Ķ–ļ—Ā–ĺ–Ĺ–į (2001‚ÄĒ2003). –ě–Ĺ –≤—Ā–Ņ–ĺ–ľ–Ĺ–ł–Ľ –∑–į–ľ–Ķ—á–į–Ĺ–ł–Ķ –Ę–ĺ–ľ–į –®–ł–Ņ–Ņ–ł –ĺ —ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ –≤—Ä–į–∂–ī–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ –Ĺ–į—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł –≤—Ä–ĺ–ī–Ķ –§–ł–Ľ–ł–Ņ–į –Ę–ĺ–Ļ–Ĺ–Ī–ł –ł –≠–ī–ľ—É–Ĺ–ī–į –£–ł–Ľ—Ā–ĺ–Ĺ–į –Ņ—Ä–ĺ—Ź–≤–Ľ—Ź—é—ā —É–ī–ł–≤–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—É—é —Ā–Ľ–Ķ–Ņ–ĺ—ā—É, –Ĺ–Ķ –∑–į–ľ–Ķ—á–į—Ź —Ä–į–∑—Ä—č–≤ –ľ–Ķ–∂–ī—É –ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–≤–ĺ–∑–≥–Ľ–į—ą—Ď–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł –ł–ľ –ļ—Ä–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–ľ–ł –ł–ī–Ķ–į–Ľ–į–ľ–ł –ł —Ä–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é, –ļ–ĺ–≥–ī–į –ĺ–Ĺ–ł —Ä–į—Ā—Ā–ľ–į—ā—Ä–ł–≤–į—é—ā –ļ–Ĺ–ł–≥–ł –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į, –ī–ĺ–Ī–į–≤–ł–≤, —á—ā–ĺ –§—Ä–Ķ–ī –ė–Ĺ–≥–Ľ–ł—Ā –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ľ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į —Ą–į—ą–ł—Ā—ā–ĺ–ľ, –į –†–Ķ–Ļ–ľ–ĺ–Ĺ–ī –£–ł–Ľ—Ć—Ź–ľ—Ā ‚ÄĒ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ ¬ę–ī–Ķ—Ä–Ķ–≤–Ķ–Ĺ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ą—ć–Ĺ—ā–Ķ–∑–ł¬Ľ, ¬ę–Ņ—Ä–ĺ–≤–ł–Ĺ—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ¬Ľ –ł ¬ę–Ņ–ĺ–Ľ—É–ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ¬Ľ. –ü–į—ā—Ä–ł–ļ –ö–į—Ä—Ä–ł –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –Ņ–ĺ–ī–ĺ–Ī–Ĺ—č–Ķ –∑–į—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤ –Ĺ–Ķ–Ľ—Ć–∑—Ź –ĺ–Ī—ä—Ź—Ā–Ĺ–ł—ā—Ć —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ–Ľ–ĺ—Ö–ł–ľ –∑–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ķ–ľ —Ą–į–ļ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ–į ‚ÄĒ –ĺ–Ĺ–ł –≤—č–∑–≤–į–Ĺ—č —Ā–ł—Ā—ā–Ķ–ľ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–Ķ–ī–≤–∑—Ź—ā–ĺ—Ā—ā—Ć—é (—É—á–ł—ā—č–≤–į—Ź –Ī—ć–ļ–≥—Ä–į—É–Ĺ–ī –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤, —Ā—Ä–Ķ–ī–ł –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö —á–į—Ā—ā–ĺ –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—á–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ľ–į—Ä–ļ—Ā–ł—Ā—ā—č, —Ą—Ä–Ķ–Ļ–ī–ł—Ā—ā—č, –ľ–ĺ–ī–Ķ—Ä–Ĺ–ł—Ā—ā—č). –Ě–Ķ—Ā–ľ–ĺ—ā—Ä—Ź –Ĺ–į –≤—č—Ö–ĺ–ī –ļ–Ĺ–ł–≥ –®–ł–Ņ–Ņ–ł –ł –§–Ľ–ł–≥–Ķ—Ä, –≤ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –Ī—č–Ľ–ł —Ä–į–∑–ĺ–Ī—Ä–į–Ĺ—č —á–į—Ā—ā—č–Ķ –Ĺ–į–Ņ–į–ī–ļ–ł –Ĺ–į –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į, –į—ā–į–ļ–ł –Ņ—Ä–ĺ–ī–ĺ–Ľ–∂–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –ł –≤ XXI –≤–Ķ–ļ–Ķ (–Ē–∂–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł –Ę–Ķ—Ä–Ĺ–Ķ—Ä), –Ņ—Ä–ł—á—Ď–ľ, –ļ–į–ļ –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ –ö–į—Ä—Ä–ł, –ĺ–Ĺ–ł –Ņ–ĺ–≤—ā–ĺ—Ä—Ź–Ľ–ł ¬ę—ć–Ľ–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–Ĺ—č–Ķ –ĺ—ą–ł–Ī–ļ–ł –Ņ—Ä–Ķ–ī—ą–Ķ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤¬Ľ. –ü–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é –ö–į—Ä—Ä–ł, –Ę–Ķ—Ä–Ĺ–Ķ—Ä –ł –Ķ—Ď —Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–ł —Ö–ĺ—ā—Ź—ā —Ā—ā—Ä–ĺ–≥–ĺ —Ä–į–∑–ī–Ķ–Ľ–ł—ā—Ć ¬ę—Ä–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—ƬĽ –ł ¬ę–≤—č–ľ—č—Ā–Ķ–Ľ¬Ľ, –Ī–ł—á—É—Ź –Ņ–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–Ĺ–ł–Ļ, –ĺ–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ —ć—ā–ĺ –Ĺ–Ķ–≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ: –Ľ—é–Ī–į—Ź —Ä–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć —ā–ĺ–∂–Ķ –≤—č–ľ—č—ą–Ľ–Ķ–Ĺ–į, –į –Ľ—é–Ī–ĺ–Ļ –≤—č–ľ—č—Ā–Ķ–Ľ –ł –ĺ—ā—Ā—č–Ľ–ļ–ł –ļ –Ĺ–Ķ–ľ—É —Ä–Ķ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č (–≤ –Ĺ–į—ą–Ķ–ľ –≤–ĺ—Ā–Ņ—Ä–ł—Ź—ā–ł–ł). –ė–Ĺ—č–ľ–ł —Ā–Ľ–ĺ–≤–į–ľ–ł, –Ľ—é–Ī–į—Ź –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–į ¬ę–≤—č–ľ—č—Ā–Ľ–į¬Ľ —Ā–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–ł—ā –≤—č–ľ—č—Ā–Ķ–Ľ –≤ —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–Ķ, –į –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–į –ľ–Ķ—ā–į—Ą–ĺ—Ä–ł—á–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł —Ā–ĺ–ī–Ķ—Ä–∂–ł—ā –≤ —Ā–Ķ–Ī–Ķ –ľ–Ķ—ā–į—Ą–ĺ—Ä—É, —Ź–∑—č–ļ –Ī–Ķ–∑ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ļ –Ĺ–Ķ–≤–ĺ–∑–ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ[23]. –ö–į—Ä—Ä–ł –Ņ–ĺ–Ī–Ľ–į–≥–ĺ–ī–į—Ä–ł–Ľ –∑–į —á–Ķ—Ā—ā–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –∂—É—Ä–Ĺ–į–Ľ–ł—Ā—ā–į –≥–į–∑–Ķ—ā—č ¬ę–ď–į—Ä–ī–ł–į–ŬĽ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ļ –≤ 2010 –≥–ĺ–ī—É —Ā–ī–Ķ–Ľ–į–Ľ —ā–į–ļ–ĺ–Ķ –Ņ—Ä–ł–∑–Ĺ–į–Ĺ–ł–Ķ: ¬ę–ł–∑ –≤—Ā–Ķ—Ö —Ā—Ä–Ķ–ī—Ā—ā–≤ –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ā–į–ľ–ĺ—É–Ī–ł–Ļ—Ā—ā–≤–į, –ī–ĺ—Ā—ā—É–Ņ–Ĺ—č—Ö –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā–ĺ—Ä—É, –≤—č—Ä–į–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ā–ł–ľ–Ņ–į—ā–ł–ł –ļ –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ—É —Ź–≤–Ľ—Ź–Ķ—ā—Ā—Ź —Ā–į–ľ—č–ľ —ć—Ą—Ą–Ķ–ļ—ā–ł–≤–Ĺ—č–ľ¬Ľ[81][23]. –ö–į—Ä—Ä–ł –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–ł–Ľ, —á—ā–ĺ –≤—Ä–į–∂–ī–Ķ–Ī–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ĺ–≤ –≤—č–∑–≤–į–Ĺ–į —ā–Ķ–ľ, —á—ā–ĺ –ĺ–Ĺ–ł –ĺ—Č—É—Č–į–Ľ–ł –≤–ĺ ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ–Ķ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ —É–≥—Ä–ĺ–∑—É –ł—Ö ¬ę–ī–ĺ–ľ–ł–Ĺ–ł—Ä—É—é—Č–Ķ–Ļ –ł–ī–Ķ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–ł¬Ľ ‚ÄĒ –ľ–ĺ–ī–Ķ—Ä–Ĺ–ł–∑–ľ—É. –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ –Ī—č–Ľ —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ –Ņ–ł—Ā–į—ā–Ķ–Ľ–Ķ–ľ, –Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ –ľ–ĺ–ī–Ķ—Ä–Ĺ–ł—Ā—ā–ĺ–ľ, –ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ—č–ľ –Ĺ–Ķ —Ö—É–∂–Ķ, —á–Ķ–ľ –Ķ–≥–ĺ –ļ—Ä–ł—ā–ł–ļ–ł (—á—ā–ĺ —ā–į–ļ–∂–Ķ –ł—Ö —Ä–į–∑–ī—Ä–į–∂–į–Ľ–ĺ), –Ĺ–Ķ –ł—Ā–Ņ–ĺ–Ľ—Ć–∑–ĺ–≤–į–Ľ –ł—Ä–ĺ–Ĺ–ł—é –≤ —Ā–≤–ĺ–ł—Ö –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—Ź—Ö. ¬ę–í–Ľ–į—Ā—ā–Ķ–Ľ–ł–Ĺ –ļ–ĺ–Ľ–Ķ—ܬĽ, –Ņ–ĺ –ľ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł—é –ö–į—Ä—Ä–ł, —ć—ā–ĺ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—Ź, —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑–į–Ĺ–Ĺ–į—Ź –Ņ—Ä–ĺ—Ą–Ķ—Ā—Ā–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ —Ä–į—Ā—Ā–ļ–į–∑—á–ł–ļ–ĺ–ľ, –≤–ī–ĺ—Ö–Ĺ–ĺ–≤–Ľ—Ď–Ĺ–Ĺ–į—Ź —Ą–ł–Ľ–ĺ–Ľ–ĺ–≥–ł–Ķ–Ļ, –Ņ—Ä–ĺ–Ĺ–ł–∑–į–Ĺ–Ĺ–į—Ź —Ö—Ä–ł—Ā—ā–ł–į–Ĺ—Ā–ļ–ł–ľ–ł —Ü–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ź–ľ–ł —Ā —ć–Ľ–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į–ľ–ł –ľ–ł—Ą–ĺ—ā–≤–ĺ—Ä—á–Ķ—Ā—ā–≤–į –ł –ĺ—ā—ā–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ–ľ —Ā–Ķ–≤–Ķ—Ä–ĺ–Ķ–≤—Ä–ĺ–Ņ–Ķ–Ļ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —Ź–∑—č—á–Ķ—Ā—ā–≤–į. –Ē—Ä—É–≥–ł–ľ–ł —Ā–Ľ–ĺ–≤–į–ľ–ł, –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ –Ī—č–Ľ –ľ–į–ļ—Ā–ł–ľ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ –į–Ĺ—ā–ł–ľ–ĺ–ī–Ķ—Ä–Ĺ–ł—Ā—ā–ĺ–ľ. –ü—Ä–ł —ć—ā–ĺ–ľ –ö–į—Ä—Ä–ł –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł–Ľ —Ä—Ź–ī —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –į–≤—ā–ĺ—Ä–ĺ–≤, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ĺ–Ķ –Ī–ĺ—Ź–Ľ–ł—Ā—Ć —Ü–ł—ā–ł—Ä–ĺ–≤–į—ā—Ć –Ę–ĺ–Ľ–ļ–ł–Ĺ–į –≤ —Ā–≤–ĺ–ł—Ö —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į—Ö, –≤–ļ–Ľ—é—á–į—Ź –ß–į–Ļ–Ĺ—É –ú—Ć–Ķ–≤–ł–Ľ—Ź, –•—É–Ĺ–ĺ—ā–į –Ē–ł–į—Ā–į, –ú–į–Ļ–ļ–Ľ–į –®–Ķ–Ļ–Ī–ĺ–Ĺ–į, –≠–Ĺ—ā–ĺ–Ĺ–ł –õ–Ķ–Ļ–Ĺ–į[–į–Ĺ–≥–Ľ.], –õ–ĺ—Ä—É –ú–ł–Ľ–Ľ–Ķ—Ä[–į–Ĺ–≥–Ľ.] –ł –≠–Ĺ–ī—Ä—é –ě‚Äô–•–Ķ—Ö–ł—Ä–į[23]. –°–ľ. —ā–į–ļ–∂–Ķ–ö–ĺ–ľ–ľ–Ķ–Ĺ—ā–į—Ä–ł–ł
–ü—Ä–ł–ľ–Ķ—á–į–Ĺ–ł—Ź
–ė—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ–ł–ļ–ł
|
Portal di Ensiklopedia Dunia















